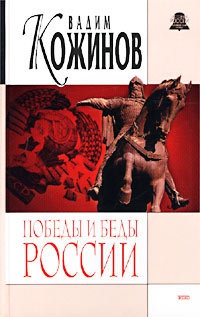Читать книгу "Михаил Бахтин - Алексей Коровашко"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Достаточно очевидно, что взгляды Бахтина на сущность актерского искусства расходятся с принципами системы Станиславского, призывавшего вышедшего на театральную сцену человека испытывать подлинные переживания. Зато неоспоримо созвучие тезисов Бахтина с рекомендациями Бертольта Брехта, теория «очуждения» которого также предъявляла актеру требование смотреть на изображаемого персонажа как бы извне, со стороны.
Рассуждения Бахтина о природе игры носят скорее характер экскурса, поскольку главное, что его занимает в главе «Пространственная форма героя», — это «то единственное место, которое занимает тело как ценность в единственном конкретном мире по отношению к субъекту».
Определение этого места неизбежно ведет к разграничению внутреннего и внешнего тела. Отличия между ними, в свою очередь, заключаются в том, что «только внутреннее тело — тяжелая плоть — дано самому человеку, внешнее тело другого задано: он должен его активно создавать». Процесс этого создания немыслим без любви. Поэтому на вопрос, как возникает ценность внешнего тела, например его красота, Бахтин отвечает не без лирической тональности: «Многообразные, рассеянные в моей жизни акты внимания ко мне, любви, признания моей ценности другими людьми как бы изваяли для меня пластическую ценность моего внешнего тела». Любовь, как и долото в руках скульптора, может быть направлена только на что-то внешнее. Скульптор может обрабатывать находящуюся перед ним глыбу мрамора, но не может обтесывать самого себя. То же самое мы наблюдаем и при возникновении любви. Для того чтобы это чувство вспыхнуло, необходим разряд между двумя полюсами: полюсом «я» и полюсом «другого». Обязательность данного условия делает невозможным, как проницательно замечает Бахтин, любовь к самому себе. Он уточняет: «Можно любить свое тело, испытывать к нему род нежности, но это значит лишь одно: постоянное стремление и желание тех чисто внутренних состояний и переживаний, которые осуществляются через мое тело, и эта любовь ничего существенно общего не имеет с любовью к индивидуальной внешности другого человека; случай Нарцисса интересен именно как характеризующее и поясняющее правило исключение». Наличие эгоистов тоже никоим образом не отменяет исходный тезис, поскольку любой эгоист «поступает так, как если бы он любил себя, но, конечно, ничего подобного любви и нежности к себе он не переживает, дело именно в том, что он этих чувств не знает». Единственное, что на самом деле доступно эгоисту, — это самосохранение — «холодная и жестокая эмоционально-волевая установка, совершенно лишенная каких бы то ни было любовно-милующих и эстетических элементов».
Бахтин считает нужным подчеркнуть, что «совершенно особым подходом к телу другого является сексуальный; он сам по себе не способен развить формирующих пластически-живописных энергий, то есть не способен создать тело как внешнюю, законченную самодовлеющую художественную определенность. Здесь внешнее тело другого разлагается, становится лишь моментом моего внутреннего тела, становится ценным лишь в связи с теми внутренне-телесными возможностями — вожделения, наслаждения, удовлетворения, — которые оно сулит мне, и эти внутренние возможности потопляют его внешнюю упругую завершенность. При сексуальном подходе тело мое и другого сливаются в одну плоть, но эта единая плоть может быть только внутренней. Правда, это слияние в единую внутреннюю плоть есть предел, к которому мое сексуальное отношение стремится в его чистоте, в действительности оно всегда осложнено и эстетическими моментами любования внешним телом, а следовательно, и формирующими, созидающими энергиями, но созидание ими художественной ценности является здесь только средством и не достигает самостояния и полноты».
Хроники соматического благоустройства
Отдельное место в третьей главе «Автора и героя…» занимает очерк истории религиозно-этической и эстетической ценности человеческого тела, ограниченной, правда, пределами западноевропейской культуры. На каждом этапе этой истории «преобладает то внутреннее, то внешнее тело, то субъективная, то объективная точка зрения». Так, в эпоху расцвета античности внутреннее тело «только примыкает к внешнему, отражая его ценность, освящаясь им». В дионисизме преобладает «внутреннее, но не одинокое изживание тела» и «усиливается сексуальность», враждебная аполлонической пластике. В эпикуреизме внутреннее тело становится организмом — «совокупностью потребностей и удовлетворений», еще несущих, правда, на себе «слабый отблеск положительной ценности другого», но отторгнувших все пластические и живописные моменты. В стоицизме «умирает внешнее тело, и начинается борьба с внутренним (в себе самом для себя) как с неразумным». В неоплатонизме отрицание тела — «как моего тела» — достигает максимума. Для разнообразных неоплатонических учений «другой есть прежде всего я-для-себя, плоть сама по себе и во мне и в другом — зло».
Христианство, пришедшее на смену античному язычеству, сохранило в своем составе несколько неоднородных моментов предыдущих эпох и конкурирующих с ним религий. Из иудаизма оно заимствовало «коллективное переживание тела с преобладанием категории другого», делающее возможным «единство народного организма». К древнегреческому и древнеримскому политеизму восходит в христианстве «чисто античная идея вочеловечения… бога и обожествления человека». С гностическим дуализмом тесно связана столь популярная в христианстве проповедь аскезы. Только в Христе, настаивает Бахтин, «мы находим единственный по своей глубине синтез (…) бесконечной строгости к себе самому человека, то есть безукоризненно чистого отношения к себе самому, с этически-эстетической добротой к другому: здесь впервые явилось бесконечно углубленное я-для-себя, но не холодное, а безмерно доброе к другому, воздающее всю правду другому как таковому, раскрывающее и утверждающее всю полноту ценностного своеобразия другого». Поэтому «во всех нормах Христа противопоставляется я и другой: абсолютная жертва для себя и милость для другого». Но так как «я-для-себя — другой для бога», то, «чем я должен быть для другого, тем бог является для меня»; «то, что другой преодолевает и отвергает в себе самом как дурную данность, то я приемлю и милую в нем как дорогую плоть другого».
Следование этим нормам, считает Бахтин, наиболее глубокое выражение нашло в таких явлениях средневековой культуры, как святой Франциск Ассизский, Джотто ди Бондоне и Данте Алигьери. Не случайно тот же Данте «в разговоре с Бернардом в раю… высказывает мысль, что наше тело воскреснет не ради себя, но ради любящих нас, любивших и знавших наш единственный лик».
Эпоха Возрождения влечет за собой реабилитацию плоти, но реабилитация эта «носит смешанный и сумбурный характер», поскольку «чистота и глубина приятия Франциска, Джотто и Данте была потеряна», а безвозвратно утраченное «наивное античное приятие не могло быть восстановлено». Возрожденческое тело «искало и не находило авторитетного автора, чьим именем мог бы творить художник», и это, в свою очередь, обусловило его «одиночество». Правда, «франциско-джотто-дантовская струя» иногда пробивается в наиболее значительных явлениях этой эпохи (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело), «но не в прежней чистоте». Однако эта замутненность средневекового приятия была частично компенсирована «могучим развитием техники изображения», пусть и лишенной зачастую «авторитетного и чистого носителя». После XVI века, знаменовавшегося кризисом идей Возрождения, «авторитетная вненаходимость телу», например Бога, «который надо мной и может оправдать и миловать», начинает быстрыми темпами теряться, пока «не вырождается наконец в организм как совокупность потребностей естественного человека эпохи Просвещения». Позитивная наука, восторжествовавшая в XIX веке, «окончательно привела я и другого к одному знаменателю».
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Михаил Бахтин - Алексей Коровашко», после закрытия браузера.