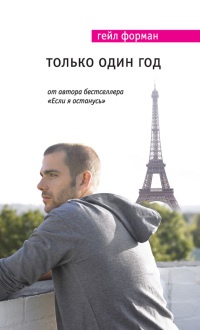Читать книгу "Капкан супружеской свободы - Олег Рой"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Соколовский знал, что мать так и не ответила на то письмо. Она была уже достаточно взрослой, но по-прежнему находилась под влиянием и сурового отца, умудрившегося сохранить все свои немалые посты почти до смерти, и вечно всего боящегося мужа — сверхосторожного советского профессора, вовсе не желавшего обрести тещу в капиталистической загранице. Далекий, слабый призыв остался без ответа, парижский голос замер, не услышанный никем… «Да и нужно ли было отвечать? — говорил Алексею отец через много лет после смерти мамы. — Твоя бабушка была чужой нам всем, это был ее собственный выбор, ее решение. Так пусть чужой и остается».
Письмо нашлось неожиданно быстро. Оно выглядело именно так, как и помнилось Соколовскому. И странное дело: едва он взял в руки этот потрепанный узкий конверт, как на душе стало спокойнее и легче. Нетерпеливо вытащив лист бумаги, покрытый косыми, нервными строчками, он прочитал те самые слова, которые только и могли быть написаны в таком послании, — нежный призыв, мольба о прощении, слова раскаяния и любви: слабая попытка объяснить другому человеку то, что ты можешь, но не смеешь объяснить себе самой… Но, главное, на конверте был адрес. Старый парижский адрес, по которому, возможно, еще удастся узнать что-нибудь о далекой, давно умершей, но отчего-то нужной и дорогой Алексею Наталье Соколовской.
Чудесным образом старое письмо настроило мысли Алексея на практический лад, и он принялся за настоящую уборку в комнатах, попутно размышляя о собственной сумасшедшей идее, пришедшей к нему еще на кладбище. Париж?! А почему бы и нет! Кстати, он ведь никогда не был в Париже. Давно хотел, но как-то все не представлялось случая. А ведь у него там есть и знакомые, и друзья, и коллеги по режиссерскому цеху, с которыми он встречался на разных фестивалях или даже принимал в своем театре в Москве. Он вспомнил, как однажды Сашка Панкратов после веселой дружеской попойки допытывался у него, отчего это Соколовский объездил всю Европу, да что там — полмира, а вот в городе романтиков и влюбленных, в столице мира — Париже так ни разу и не побывал? «Ноги не несут, — отшучивался Алексей и в свою очередь приставал к надоедливому приятелю: — А сам-то ты? Тоже ведь там не был!» «Да мне лимит не позволяет», — отмахнулся тогда веселый Панкратов, крутя своей вечно растрепанной рыжей шевелюрой. «Лимит чего, времени?» — не унимался Соколовский. «Да нет, балда. Бумажника с деньгами…»
А кстати о деньгах. Завтра надо будет выяснить, что осталось на счетах, много ли сожрала за эти месяцы Клиника неврозов и каково его нынешнее финансовое состояние. Не исключено, что и ему финансы не позволят поглядеть Париж. «Все равно поеду. Что-нибудь да придумается», — с непонятной ему самому веселой решимостью подумал Соколовский и удовлетворенно оглядел результаты своих стараний. Все вещи лежали на своих местах, мокрая тряпка прошлась по унылым, грязным поверхностям, где это только было возможно, и помещения обрели хоть и не совсем обычный, но, по крайней мере, жилой вид. Нельзя, конечно, сказать, что квартира сияла, но пыль и безнадежность успели улетучиться из комнат. Он даже сумел без ожидаемой сердечной боли взглянуть на большую фотографию жены в спальне и мысленно спросил ее: «Ну что? Как я справляюсь, что скажешь?…» И, не получив ответа, тихонько вздохнул, прихватил с собой потрепанный конверт и направился в кабинет.
Короткая летняя ночь уже почти кончилась, в окна вливался бледный рассвет, когда Соколовский устроился в большом кресле, прикрывшись уютным клетчатым пледом. Мысленно он еще раз пробежался по делам и планам предстоящего дня, как когда-то учил его отец. В банк — это раз. В театр, к труппе, — два. Написать в Париж Сорелю — три… Рядом с ним лежали письмо, которое он не собирался перечитывать, а взял с собой лишь для собственной уверенности и душевного спокойствия, и та пьеска, которую он отверг, находясь в больнице. Ему вдруг снова захотелось работать, и слабый, дилетантский текст неожиданно представился ему огромным, сырым куском мяса, из которого умелый повар всегда сумеет приготовить пусть не самое изысканное, но зато добротное блюдо…
Как сказала та женщина на кладбище? Надо отпустить любимых людей на волю, избавить их от своей печали. Надо искать родную кровь или родную душу; сделать то, что должен, тогда и последний отдых покажется слаще… Да, делать то, что должен. И когда сон неожиданно сморил его, Алексей все еще крепко сжимал в руке бабушкино письмо, казавшееся ему последним якорем в его непутевой, не нужной никому — и ему самому — жизни.
Женщина сидела к нему вполоборота, облокотившись на мягкий подлокотник кресла и почти утонув в нем, так что ее фигура была едва различима в полутьме. Она была не молодой и не старой, не знакомой ему и не таинственной незнакомкой; все казалось зыбким и странным в ее окружении, и только глаза ее чудесно сияли в темноте, будто живя своей собственной, совершенно отдельной от лица и фигуры жизнью.
— Это — ты, — сказал он утвердительно, веря и не веря самому себе. — Ты есть? Ты и в самом деле существуешь?
Она улыбнулась. Потом гибко поднялась из кресла и подошла к нему почти вплотную. Она вся была, как почерк на том старом конверте, — неровные, изломанные линии ее тела напоминали ему картины абстракционистов, о которых он никогда не мог с уверенностью сказать: нравятся они ему или нет. Подняв руки к голове округлым и немного старомодным движением, она поправила прическу, хотя поправлять было нечего, и отвернулась к окну, где ночь только что начала сменяться рассветом.
— Зачем ты все-таки это сделала? — снова спросил он и ощутил бессмысленность своего вопроса.
Она грустно покачала головой.
— Ты правда нуждаешься в ответе? Неужели ты не знаешь его?
Он промолчал. Что он знал? Что он мог вообще знать о жизни женщины, променявшей сначала свою семью на любовь, потом дочь на мать, и, наконец, забвение и неизвестность на мольбы о прощении? Что мы можем знать о мотивах поступков, сжигающих нас, и о том, что такое настоящая вина и настоящее раскаяние?…
Женщина приблизила свое лицо к его лицу, и на мгновение ему показалось, что он снова видит тот самый смутный старческий образ, который и прежде являлся ему… где? когда? Он не смог вспомнить. А она заговорила монотонно и печально, точно рассказывая ему давно знакомую историю, и в каждой ее фразе он узнавал какую-то истину, которую как будто знал прежде, нежели она вспоминала о ней.
— Она в самом деле была одинока и несчастна, — говорила женщина, и он легко понимал, кого она имела в виду. — И очень, очень больна. Когда она увидела меня, вошедшую с вокзала, в дорожной шляпе, усталую, измотанную, у нее задрожала рука, державшая чашку с чаем, и обручальное кольцо — единственное, с которым она так и не рассталась, — соскользнуло с похудевшего пальца, и мы долго потом искали его на полу… Смерть брата и отца подкосила маму, и мне надо было остаться, чтобы зарабатывать деньги, кормить ее и себя, не дать ей умереть с голоду. Париж всегда был прекрасным и жестоким городом — для тех, кто не являлся его частью, его сутью, кто был для него инороден и чужд, как мы, беглые русские, в начале двадцатого века…
«Эмиграция как оскорбление» — вдруг некстати вспомнилась фраза, совсем недавно ставшая знаменитой, и он торопливо кивнул, испугавшись, что его собеседница не скажет больше ни слова. А она пожаловалась как-то беззащитно и совсем по-детски:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Капкан супружеской свободы - Олег Рой», после закрытия браузера.