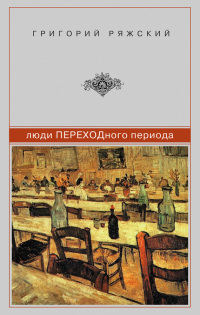Читать книгу "Страстотерпицы - Валентина Сидоренко"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поднялись на берег. Он сразу упал на траву, раскидал руки, глядя в небо. Загорелая кожа его еще ознобно рябила, но грудь дышала ровно. Она присела рядом, оттягивая на колени мокрый подол платья.
– Хорошо. А? – сказал он. – Нет, хорошо! – Где-то неожиданно и глухо затукала кукушка, и оба они навострили уши, высчитывая.
– А ты говорила! Еще, еще, еще, – подстегивал он кукушку, рассмеялся, и она рассмеялась за ним…
– Ты деревенский? – спросила она.
– Из Мишелевой, – подтвердил он.
– Чего здесь делаешь?
– Купаюсь…
– Каждая голова свой камень ищет.
– Мой камень далеко-о!
Она улыбнулась ему, он ответил тем, что провел пальцем вверх по ее ноге. Это ей не понравилось, он понял и, отвернув голову, неожиданно и неправильно пропел: – Раз увидишь – больше не забыть… Слушай, я до Шаманки хотел сплавать. Там такой пляж! Пляжик что надо!
– Ну и что ты там делаешь?
– Ворон считаю, – спокойно ответил он. – Что там больше делать. Там лес горелый, воронья много!
– Ну давай, считай. Сколько же времени сейчас?
Он развел руками – мол, счастливый, – сам сказал:
– Рано еще. Давай сплаваем до Шаманки?
– Сейчас! – в тон ему спокойно усмехнулась она. – Вот посижу только немного.
– Ну посиди. Я подожду.
Трава была теплой, шуршала под пятками. Разошлась дымка на реке, успокаивались перед жарою птицы. Грохнул и прокатился выстрел. Анна вопросительно посмотрела на него, он махнул рукою – так. Балуется кто-то.
– Ну дак что, поплыли?
Она не ответила.
– Боишься?
– Сам ты боишься. До Шаманки не доплыл.
– Это я тебя увидел. Не смог мимо…
– Бабушке своей расскажи…
– Ты, наверное, воду-то только из-под крана видишь.
– Ну уж до Шаманки-то доплыву…
Она не боялась его. Сработала, как это редко, но бывает, память на «своего» человека. Было в нем что-то легкое, мальчишеское, забытое ею в городе. Наверно, таким стал брат Андрейка. Анна вспомнила, что этим летом она еще не купалась, хотя с самого открытия лагерей они ездили мимо таких рек и речек. Как-то хотела искупаться в заливе, но Олег отговорил, да и времени было мало, два-три спектакля в день с переездами. К вечеру себя не чувствуешь и ничему не рада. Анна вздохнула, со спокойной решимостью расстегнула платье на груди, сняла его через голову, осторожно развесила на куст, чтоб подсохло, и, немного стесняясь городской вялости своего тела, пошла к воде. Она шла напряженно, неестественно, показалось, что парень идет вслед, оглядывая ее, но, уже вступая в воду, обернулась, увидела, что он еще стоит наверху спиною к ней и смотрит в перелесок.
– Ну, ты идешь? – капризно спросила она.
– Конечно, – спокойно ответил он и, не глядя на Анну, стал спускаться к реке.
* * *
…Вечерами мать, если не шила ребятишкам, уходила к Марфуше. Старуха жила одна. Старика в войну потеряла, а двое детей разлетелись по городам, едва оперившись. Говорят, звали ее к себе. Марфуша в город не поехала.
– Ездила я туды. Видала. Залезешь в эту клетушку. Встань торчком да стой молчком. Лупи глаза. Срам, ей-богу. И только. Я ее, воды горячей, и тута согрею, печка, слава богу, хорошая.
Хозяйство у Марфуши – корова да кот.
– Одиннадцатый по счету, – говорит она. – У меня ни один кот не пропал. Вот как сошлись мы со своим, завели кота – считай, этот одиннадцатый. Все коты. Брала котов. Ленивые они, коты, и не охотники. Зато дома. Года два-три пошастают по ночам – и на печку. Милей ему уже не надо. А те, расщеколды рябые, до сивой поры все блудят. Как заорет под окном, хоть беги из дома…
Мать слушала ее и со всем соглашалась. Она всегда со всеми соглашалась. С соседками, с отцом, с Марфушей. Кивнет головой и молчит. Марфуша же словоохотлива. С утра до вечера молоть языком может. Корову выведет за ворота: «Танька, – кричит матери, – иди, че скажу-то!..»
Мать еще корову к стаду подгоняет, а Марфуша уже частит языком, все побайки вспоминает.
– Если б я такая, как Танька, была, я бы вон на той березе еще до началу века свесилась. Мне хоть Буренке под хвост, да пошептать надо.
Мать согласно кивнет головой и уткнется глазами в шитье. Она любила мелкую, кропотливую работу, рукодельничала, вышивала, слушая ручьистые речи Марфуши. С Марфушей они дружили всю жизнь. Старуха рассказывала, как мать еще девчонкой на ее свадьбе из-за печи выглядывала. А потом, когда мать выходила замуж, Марфуша плясала на ее свадьбе. Первых ее девчонок сама принимала. Отца Анны Марфуша не любила: ходили слухи про него и про Таньку Андрееву из конторы, бабу еще нестарую.
– Блудный сын да потаскушка нашли друг дружку, – фыркала Марфуша, зыркая глазами в сторону заплаканной матери. – Тут уж, Танька, ничего не поделаешь. Если уж у мужика завелся в крови блудящий микроб, он пока не выбесится, а гулять будет. Потерпи. Я те вот че скажу, если уж невмоготу совсем станет. Ты его пьяного отчубучь по загривку, чтоб кости поутру зазвенели… И тебе полегчает, и он посмотрит-посмотрит, да подумает еще. Как в другой раз, да с кем связываться.
Как-то под осень, после одного из скандалов, мать решилась. Она выпроводила Анну с Андрейкой к Панке Жуковой, Анниной сверстнице и соседке, на заложку закрыла калитку.
Анна постояла немного подле лавочки, потом шепнула Андрейке: «Беги до Панки, кликни ее ко мне», – и вернулась к дому огородами.
Мать вслепую тыкалась по ограде, потом нашарила в темноте узкое полено. Несмело подошла к сидевшему на крыльце мужу, замахнулась. Рука ее как бы сломалась в воздухе и повисла вместе с поленом. Она замахнулась еще раз, потом с силой отбросила полено, села рядом на крыльцо и заплакала. Анна медленно подошла к ней, ткнулась носом в плечо, почуяла жестковатый, резкий запах лука, исходящий от рук матери, всегдашний запах ее рук, и заплакала с ней в голос…
Потом пришла Панка, крепенькая, как гриб боровичок, невысокая смешливая толстушка, и зазвала ее к себе ночевать на сеновал. Ночь стояла черная, с мелкими сыпучими, зелено чертившими небо звездами. С гольцов тянуло сыростью, предосенней прохладой. Поселок потонул в темноте, он словно проваливался в таежных распадках, светя ввысь желтыми оконцами. Поселок небольшой – двадцать два двора, магазинчик, школа-трехлетка. До железной дороги далеко. Надо пешим ходом идти до совхозного отделения. Оттуда автобусом до райцентра, а уж с райцентра автобусом или чем бог пошлет до станции. А там можно уехать в город, в неведомую, большую, будущую жизнь, о которой с замиранием сердца думалось и мечталось, и даже снилось, что она ищет дорогу в город, но найти так и не может…
Анна лежала рядом с Панкой в пахучем сене, под овчинным тулупом, смотрела, как лучится звезда сквозь прореху в крыше, и думалось ей, что вырастет, уедет в город, выучится на артистку и заберет с собой мать. На улице, у клуба, пели девушки. Они тянули какую-то странную, тягучую, печальную песню, пели грустно, будто сами жили так же тяжело, с постылым мужем и злой свекровью, как та девушка, о которой в песне поется. И во всей этой ночи, в звонкой и ранней ее прохладе, в этих падающих в глухую зыбь звездах, и в песне, и в блуждающем внизу по дому говоре Панкиных родителей, – во всем напряженно и чутко жила какая-то печаль. Звезда в прорехе все укрупнялась, становилась ярче, яснее, а воздух вокруг нее чернел и зыбился, песня затихла, и собака в своей конуре прекратила скулить и зевать, и почувствовалось на миг в этой тишине невидимое чье-то присутствие, тайное и могучее дыхание чужеродной силы.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Страстотерпицы - Валентина Сидоренко», после закрытия браузера.