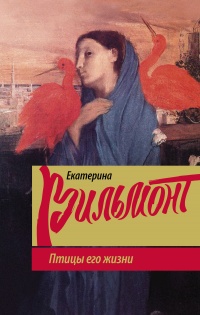Читать книгу "Ненасытимость - Станислав Игнаций Виткевич"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В какой-то момент Генезип свернулся в клубок, словно укушенный, к примеру, скорпионом. Он должен насытиться за все времена и упущенные шансы — бесконечность не объять, но должно произойти нечто такое, что ему ее заменит. Ведь на самом деле ничего нет — кроме этой комнаты, Элизы и ее непобедимой красоты. Он не думал ни о чем, но в нем творилось что-то ужасающее. Все тайные знаки прежних снов предстали перед ним на этой гостиничной кровати. Впереди никакой жизни — будущее стало мертвым, бессмысленным словом. Семья, знакомые, Коцмолухович, Польша, нависшая над ней безнадежная война, — что все это значило в сравнении с возможностью залпом проглотить и мир и себя, совершив некий безумный поступок, притом без всякого труда и усилий. Только начать — а дальше само пойдет. Казалось, синие кольца бесконечной спирали закружились в центре его естества (которое было центром вселенной), когда он вгляделся в закатившиеся в безумном экстазе наслаждения невинные, а теперь такие чужие, зверо-ангельские глаза жены, — это уже была не жена, не любовница, а какая-то инфернальная скотобогиня, воплощение хрупкости всего на свете, течения бесценно дорогого времени, чего-то, что драгоценней всего. И это было реально! Ха! Как поверить в это, как удержать живое пламя высшего чуда, как из этой летучей, едва мерцающей мглы, из этой до боли ядовитой безвозвратности неуловимого мгновения сотворить хотя бы к у с о ч е к в е ч н о с т и, твердеющей в жестких, костлявых лапах воли. Все тщетно.
Кошмарные мечты во время свадебного пира? — ничтожная чушь. Человеческая личность, складывавшаяся в нем с таким трудом, в течение миллионов поколений, только теперь начала расползаться, рваться, трещать, разлетаться, лопаться и распадаться, взрываясь медленным, болезненным разрывом, и не могла налопаться досыта в бездонной пустоте, зияющей чистой смертью. Он видел, как дергалась в экстазе шея, — белая, гибкая, искушающая, — ощущал под обезумевшими руками прекрасные, в е ч н о совершенные формы полукружий обратной стороны изогнутого дугой тела. Он раздирал ее, всем собой внедряясь в само средоточие наслаждения, которое, казалось, было везде и нигде, обнимало все круги земного ада и недостижимого истинного Неба Небытия. Но умереть он не мог. Он не любил ее в эту минуту — скорее, ненавидел — в степени, для разума непостижимой. За что? За эту боль самоуничтожения заживо, за то, что тем, что он делал, он никогда уничтожить ее не сумеет, не одолеет эту невыносимую красоту. В нем рвались жилы и сухожилия, скручивались кости и мышцы, в мозгу остался только ужасный, пылающий, убийственный рык восторга перед Ничтожеством Бытия. Он отпустил полушария и впился руками в ненавистную шею. Глаза Элизы вылезли из орбит и от этого стали еще прекрасней. Она не сопротивлялась — ибо тоже тонула в высшем восторге. Боль соединилась в ней с наслаждением, а смерть с жизнью вечной — во славу воссиявшей Тайны Всебытия. Она глубоко вздохнула, но дыхание уже не вышло из нее живым. Тело содрогалось в предсмертных конвульсиях, давая ужасному победителю высшее утоление: он знал, что уничтожил ее, — это была последняя искорка гаснущего разума. Генезип сошел с ума окончательно и бесповоротно. Так он и заснул, с трупом в объятиях, не понимая ничего земного. Было ли это преступлением? Пожалуй, нет — поскольку Зипек знать не знал в ту страшную минуту, что, убивая, он кого-то лишает жизни. Он всего лишь наконец по-своему полюбил Элизу и хотел с нею действительно соединиться.
А утром, в семь, он проснулся «avec une exactitude militaire»[217], как маршал Ней перед казнью. Высвободился из мертвых объятий возлюбленной, встал, умылся в ванной, за стенкой, вышел оттуда, даже не взглянув на труп (а даже если бы и взглянул, не понял бы, что это, собственно, такое), и, натянув мундир и шинель, взяв дорожный чемоданчик, спустился вниз. Он вел себя абсолютно как автомат, действовал, повинуясь тому роду сознания, которое велит пчелам собирать нектар, муравьям — таскать сосновые иглы, наездникам — откладывать яйца в гусениц, и тысячам прочих тварей — выполнять подобные действия. Теперь в нем действительно не было ничего от прежнего человека. Несмотря на то что он все отлично помнил, память была мертва — вживе она принадлежала другому человеку.
Был обычный осенний день, так себе «денек» — для обычных людей. Генезип тоже был зауряднейшим субъектом — в нем все сгорело — началась первая стадия кататонии.
— Бумаги пришли? — спросил он у портье.
— Да, господин поручик — ординарец принес в полседьмого. Я как раз хотел распорядиться, чтоб вас разбудили.
— Госпожа останется до завтра, — сказал через него какой-то голос из иного мира. Он оплатил счет и поехал на вокзал. Все делал за него кто-то другой. Зипек умер навеки, но личность была все та же. Он обедал в вагоне-ресторане, бездумно глядя на улетавшую вдаль, слегка подернутую инеем мазовецкую равнину, тонувшую в отблесках тускловатого, осеннего солнца, и так же бездумно слушал неизмеримо глубокую ерунду, которую плел сидевший напротив него Лямбдон Тыгер. Конечно, странный старик уже знал обо всем и полностью все оправдывал — это было интересно, Зипек выслушал его даже с удовольствием, но теоретическая лекция прошла впустую — автоматизированный мозг уже не удерживал абстрактных понятий. Может, на то и был расчет. Все муртибингисты сперва проходили острую стадию, а потом засыпали в системе понятий, как в куче удобных подушек. (В качестве агитаторов использовали только тех, у кого острое воспаление длилось дольше.) Лямбдон знал, что Элиза перестала для них существовать, едва сбылись ее эротические грезы. Он также знал, неизвестно откуда, что она не могла иметь детей — а значит, была не нужна. Какое дело было ему до всего остального? Она умерла в высший момент своей жизни — после того, что было, ее мог ожидать только медленный упадок и самоубийство. Не лучше ли, что так?..
В столице Генезип доложил о себе в гарнизонной комендатуре и тут же направился на дом к квартирмейстеру. Было пять часов пополудни. Генерал обедал в компании жены и дочери. Он был странно, мертвецки бледен, и чернота его усов на фоне этой бледности казалась трауром. Ведь именно в эту, только что прошедшую ночь квартирмейстер пережил свои давамесковые видения. В его титаническом мозгу явно что-то изменилось — но что — не знал и не узнал никто. Очи черные как смоль, «smorodinowyje», как всегда, светились дикой веселостью. Ведь завтра вся банда «убывала» на фронт — наконец-то! Конец мелким, дурацким политическим играм — начиналась большая, величайшая в жизни игра — не на жизнь, а на смерть. А в душе была тайна, и где-то на дне, свернувшись, подстерегала большая неожиданность, — единственная верная, настоящая, достойная его любовница. Зипа пригласили к столу, и он с аппетитом отобедал, хотя два часа назад вполне насытился в поезде. Однако бедняга был слегка утомлен. Странное дело — Коцмолухович не произвел на него никакого особенного впечатления. Конечно, он был рад, что у него есть Вождь, что этот Вождь такой замечательный — но чтоб это было чем-то таким уж необычайным, так нет. Как бывший соперник в отношениях с Перси он не существовал для Зипа вовсе. Квартирмейстер отдыхал перед завтрашним отъездом, расслаблялся — детантировался и энтшпанировался, как говорил он сам. Он умел устраивать такие моменты программного, беззаботного отдыха, даже когда была уйма дел. В такие дни он не делал ничего: разговаривал с женой, даже потрахивал ее время от времени, играл с дочкой и рыжим котом Пумой, просто слонялся из угла в угол. Он хотел напитаться атмосферой семьи и дома — может, последний раз в жизни. Что отнюдь не омрачало атмосферы. В таком состоянии все только лучше усваивалось. Высшее искусство наслаждения жизнью. Тут руку не набьешь — надо просто иметь такой характер. В полшестого они с Зипеком сидели в его домашнем кабинете и пили кофе. В ответ на милостивые расспросы Генезип изложил всю свою жизнь, рассказал всякие подробности об отце, о ходе службы и боя и даже — в общих чертах — о романе с княгиней. Когда он дошел до знакомства с Перси, квартирмейстер странно воззрился на своего адъютанта. Но кататонизированный адъютант отважно выдержал этот взгляд — «Un aide-de-camp catatonisé — quel luxe»[218], — как говорил потом де Труфьер.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Ненасытимость - Станислав Игнаций Виткевич», после закрытия браузера.