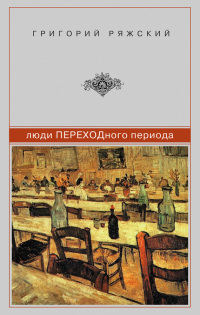Читать книгу "Подмены - Григорий Ряжский"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Она поняла. И, наверно, в каком-то смысле даже сумела простить, потому что была женщиной благородной и доверчивой – той, каких теперь нет. Скорее всего, именно этой чертой характера объясняется и её дальнейшая судьба – связь с неприглядным человечишкой, последующий разлад с ним и скорая трагическая смерть в скорбной удалённости от прошлой жизни.
Гаринька, я верующий человек, ты это знаешь. Кто, как не я, словно надоедливая учительница, разъясняла тебе смыслы Нового Завета и значение его для людей. И кто, если не я, мечтала сделать так, чтобы воскресная церковь со временем стала для тебя частью жизни. Но и не кто иной, а я же сама и смалодушничала, предав память твоей прабабушки.
Я не знаю, что подвигло меня написать то самое письмо. Быть может, животный страх перед будущим одиночеством, превозмогший всё разумное во мне и всё человеческое. И я знаю, прощения мне нет и быть не может, но только и не сказать об этом на закате жизни не могу. И если, Бог даст, увидимся ещё, скажешь мне слова, которые я заслужила и к которым готова. Нет – так знай: не было и дня в жизни моей на новом месте напротив нашего с тобой Елоховского храма, в какой не думала бы я о своей неблаговидной роли касательно покойной жены Наума Ихильевича. Быть может, сложись всё иначе, она и теперь была бы жива: и не я, а она испытывала бы радость общения с тобой и своим сыном Моисеем.
Милый, теперь это дело уже только твоё – поведать ли Моисею Наумовичу правду, до этого дня сокрытую от всех вас, или не волновать старого человека новой истиной. Справедливо будет, наверно, и так, и эдак. А как лучше – тебе решать. Или – обоим нам, если так случится.
Я прижимаю тебя к своей старушечьей груди, родной мальчик, и прощаюсь на тот случай, если не дождусь нашей встречи.
Помни обо мне только то, что само сердце подскажет тебе. Всё остальное – пустое и недостойное любой памяти.
С любовью! Навечно твоя, баба Анна».
Вот так, ни больше и ни меньше.
Откровенно говоря, лично я, начиная с самых ранних лет, к Елоховскому храму относился вполне нейтрально – ну стоит себе и стоит, хлеба не просит и не особенно мешает, если только не брать в расчёт проссанного насквозь подъезда на все эти ежегодные православные Пасхи. В общем, не посещал. Хотя нет, заходил пару-тройку раз. В первый раз, перед пионерлагерем, когда понадобились тонкие свечки, чтобы устраивать в палате «тёмную», но не слишком. Меня загодя предупредил об этом друг Кирка, с которым мы хорошо сошлись в свой первый лагерный год. Он сказал: вот увидишь, нас с тобой мутузили не сильно, потому что было темно и они плохо попадали. А мы с тобой свечечки запáлим, и будет видней, куда кого ответно бить. Вернёмся с набитыми костяшками – зуб даю, так что прихвати, не поленись. Потом уже, через годы, я завернул туда ещё пару раз – как раз определялся в ту пору, кто же я всё-таки есть, русский или не до конца. Впрочем, второе вовсе не означало, что еврей, даже если исходить из многообразия признаков. Так ничего толком не решив, случайные эти посещения прекратил. Да и не до них стало, если уж на то пошло, больно в стране многое поменялось – шла середина восьмидесятых, начало грандиозного перелома, что в мозгах, что по жизни вообще. Но в тот раз армейским пацанам своим я сказал заведомую неправду…
– Хожу… – ещё раз, но уже гораздо спокойней подтвердил я нужную версию и тут же оглоушил «деда» встречным иском: – А сам-то? Сам когда был там в последний раз? Или, может, вообще мимо кассы?
Он, разумеется, был в курсе, что умеренно приблатнённый лексикон порой творит чудеса, однако не учёл, что подобное проявление силы воли чаще срабатывает на гражданке. Мы же с ним теперь были на службе, где ты обязан подчиняться другим законам, а долги отдаются иным порядком.
– Сам-то?.. – чуть замялся командир отделения. – Сам ходил. Когда надо, тогда и посещал. – Но тут же, опомнившись, вернул себе преимущество в ходе предварительных слушаний. – Не тебе, уродику-москвачу, мне тут допросы, понимаешь, учинять: где был, чо делал… Ты, сука, лучше скажи, по какому-такому праву ты со мной в ровню затесался? То, что мы тебя с первого раза не просекли, ещё не значит, что простили. Поня́л, салага? И не тебе опять же, рожа езуитская, меня, православного, учить родину любить, ты усёк?
– Может, ты, конечно, и православный, а только в Бога точно не веруешь, – в ответ не растерялся и я, уже начинавший прикидывать, как мне уберечь то самое, о чём предупреждал Моисей Наумович. – Православный – вообще-то не обязательно «верующий». Православный – это больше этнос, привычка, традиция. Это просто некая невидимая связь со страной, в которой ты живёшь, это ещё и отношения в семье, то, как ты думаешь, говоришь, как ешь, пьёшь, любишь, как происходит в твоей конкретной жизни всё остальное, важное и не только. Это… – на секунду я задумался, ища подходящее определение, такое, чтобы уже надёжно отсечь себя от них, перебросившись в другой статус. Стать принципиально чужим. Задрать, если угодно, градус общения и тем самым перевести проклятые стрелки на час назад. А не сработает, так, по крайней мере, оттянуть момент расчёта, а там будь что будет, всё равно к прежнему уже возврата нет вплоть до самого дембеля. Это если не покалечат и не комиссуют остатки организма принудительным порядком. И я закончил найденную мысль: – Это скорее самоидентификация, вот.
Я сказал и понял вдруг, что не соврал. Именно так и думал всегда, но только не давал себе в том отчёта. В смысле православия. И вообще.
Вновь недолго помолчали. Все, включая заоконное небо, буквально за миг до этого глухими завываниями неспокойного ветра известившее роту о скорой непогоде.
– Ясненько! – с неожиданной весёлостью в голосе прервал вдруг паузу ефрейтор-татарин. – Ты, – кивнул он на меня, – православный, а он, – сделал злющими глазами в сторону командира отделения, – самопальный. Или как ты там его назвал? Само… иди… инте… идиотский?
Первое изумление солдатской аудитории тому, что тихая гарнизонная мышь неожиданно для всех оказалась ушлой полковой крысой, прошло быстрее, чем я предполагал. Потому что по итогам накоротке состоявшейся сессии гнев бойцов отделения явно превышал их же искреннее удивление. И теперь требовал удовлетворения любым путём. Место, на котором возникло это неожиданно быстрое озлобление, оказалось вовсе не пустым, как изначально полагал наш служивый люд. Место это, как выяснилось теперь, всегда было занято хитроумным неудачником-лицедеем нерусского корня, так долго игравшим роль затесавшегося своего.
– Я просто сказал, что каждый решает для себя сам, кто он есть и в кого верит. Или не верит вообще, в принципе. Что тоже вполне реально, – негромко сказал им я. – Лично для себя я решил, что – православный.
– Выходит, это сам же Христос тебе и помог в нашу веру пробраться? – задумчиво протянул кто-то из второго эшелона, не примыкавшего напрямую к зоне тёрок.
Если честно, я даже не понял, кто спросил, но почему-то подумал, что то был рядовой, как и сам я. Однако, в любом случае, заход был сильный и бил непосредственно в лоб. Я это ощутил по тому, как запрос был произведён – негромко, отчётливо, с нужной интонацией и без единого фактора обходительности. И потому ответить следовало единственно возможным образом – мощно и убийственно обезоруживающе. Я и сказал тогда слова, те самые. Которыми себя и погубил. По крайней мере, уж до собственного «дедова» срока – точно угробил. А отбиться решил так. Спросил, сделав удивлённое лицо:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Подмены - Григорий Ряжский», после закрытия браузера.