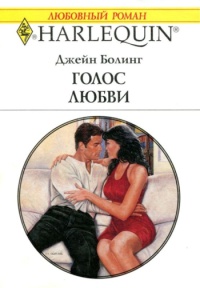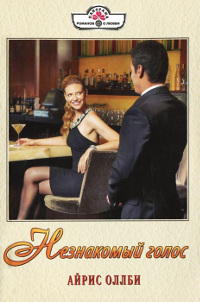Читать книгу "Светка - астральное тело - Галина Шергова"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Так, слава Богу. Поздравляю блудного сына с возвратом в лоно поэзии. Только уж никак не думал, что могу стать побудителем. Но слава Богу. И в благодарность могу вам тоже покаяться: я же знаю – к творчеству не способен. А для таких высшей радости нет, если хоть искрой в чужой костер. Читайте.
Шереметьев видел: все правда, рад, хочет услышать стихи.
– Читайте. Немедленно читайте, – повторил Швачкин.
– В театре снега шел Исход…
Шереметьев кончил. Швачкин слушал задумчиво, сказал:
– Еще раз, пожалуйста. Я же не Россини, а хочется уловить все. – И после повторного чтения: – Да, и мне бы такой роли, Господи, «стать тоской или строкой». Однако, увы, мои-то строчки истлеют, за небо не зацепившись, да и тосковать обо мне будет некому. – Подлинная грусть звучала в голосе Федора Ивановича. – Не будет Швачкина, все некрологом исчерпается. В близком предвидении конца надо уметь себе в этом отдать отчет. Разве что, – он улыбнулся с совсем уж невыразимой грустью, – в комментарии к вашему стихотворному сборнику кто-нибудь поместит: «Как рассказывал автор, толчком к написанию этого стихотворения был разговор с Ф.И. Швачкиным».
– Ну, полно, Федор Иванович, – великодушно запротестовал Шереметьев, будто вопрос о сборнике был уже делом состоявшимся, – вы даже себе представить не можете, каким генератором энергии вы стали для многих. По себе сужу. После вашего доклада я – вообразите! – вернулся к давней поэме.
Долгим и прекрасным был этот разговор. Шереметьев рассказал про Фонвизину, как посмотрелась она, точно в зеркало, в страницы прекрасных книг. Как мечталось сложить поэму, стилизуя разных литераторов, тех, что писали о Наталье Дмитриевне, но сохранить при этом свое письмо.
– А как важно создать в литературе идеал, сегодня, при тяготении мира к нравственной энтропии! – восклицал Максим.
– Энтропия? – переспросил Федор Иванович. – Это что-то физическое? Растолкуйте, будьте добры, популярно. Я ведь в естественных науках ни бум-бум.
Признание Швачкина в том, что он чего-то не знает или не понимает, было столь беспрецедентно, что Максим Максимович замолк, потрясенный.
– Говорите, говорите, я в самом деле в этом не понимаю, – подтолкнул Швачкин.
– Энтропия, – застенчиво начал Шереметьев, – это вселенское тяготение к неупорядоченности, как бы стремление к хаосу. Обратное информации, ибо информация есть мера уменьшения неопределенности. И мне, знаете ли, пришла такая метафора, – тут голос Шереметьева снова набрал силу: – Нравственные категории мира в силу суммы различных причин тоже подвержены энтропии. А поскольку идеал – совершеннейшая конструкция, она и противостоит энтропии.
– Совсем человек дурак остался. Это я про себя, – улыбнулся Федор Иванович. А Шереметьев все шел вверх.
– Да ведь и вы в докладе говорили, как необходим нынче герой для подражания. Идеал. С чертами сегодняшними и вечными. Вечные истины нельзя изобретать. Идеал нетленен!
Вошла Анастасия Михайловна:
– Извините, Федор Иванович, но вы Соловых и Ольгу Дмитриевну вызывали. Они давно ждут. И Кучинский спрашивал.
– Да, да, простите, сейчас освобожусь, – смутился Швачкин. Шереметьеву: – Что делать, от текучки не уйдешь. Но мы продолжим. А вы пишите. Непременно пишите, я уверен, что напишите. И здорово. Раз стихи пошли – подан знак.
Если бы Максим Максимович захотел оценить точность выражений, утративших плоть от долговременного блуждания по литературным страницам, то словосочетания «лететь на крыльях», «не чуять под собой ног» показались бы ему откровением. Ибо именно в таком состоянии поглощал он институтские коридоры, радужно кивая встречным. Не им шел навстречу. Он шел навстречу потерянной и обретенной, как мильтоновский раз, поэме.
Поговорить со Швачкиным о Светке как-то само собой забылось, а уж, если начистоту, то и не вспомнилось более.
Через несколько дней уже многие друзья и сослуживцы Максима Максимовича знали, что он приступил к давно прерванной работе, и, помня его былые поэтические успехи, верили, что он напишет сочинение, которое заставит заговорить о нем.
О том, что никакой поэмы не будет, знал только Швачкин. Мы ведь не зря говорили вам о том, что чутье на истинное искусство всегда присутствовало в нем обостренно. И не только в оценках уже созданного. Федор Иванович обладал и способностью предречь художнику значительность грядущего творения.
Тридцать шесть строк в рифму, не лишенных, конечно, образности и настроения, но отнюдь не благословенных перстами непостижимости, Швачкина в заблуждение не ввели. Он понимал: тут эхо чужих голосов, стилизация, без собственного почерка.
Тридцать шесть строк о снегопаде, принятых Шереметьевым за посланцев Поэзии, зовущей к новой работе, были – увы – последними, какие ему довелось сложить.
Из ничего можно произвести только ничто. А за эти годы от Максима Максимовича ничего не осталось, уж Федор-то Иванович ошибиться не мог.
А тем временем Ирина и Соконин переживали горькие минуты. Публика не дура, усекла, кого Швачкин имел в виду в статье «Кумиры или властители дум?» Собственно, широкая публика именно это место в статье и читала.
Про Соконина посыпались читательские письма. Он еще имел неосторожность рассказать в одном из очерков историю про медведя. Медведь этот, живя в тайге, ходил к своей возлюбленной медведице за десять верст. Пойманный и посаженный в клетку, тосковал и лютовал. Работники областного зоопарка, куда поставили медведя, решили: скучает без самки, и возьми да подсади к нему первопопавшуюся медвежью даму. И что же? Навязанную невесту нашли поутру разодранной в клочья. А смотритель, который при медведях весь свой век провел, только головой покачал: «А вы что думали? Как у вас, у людей, лишь бы баба? Нет, у них любовь».
Может, не именно в этих выражениях, но Иван Прокофьевич историю поведал.
Да, так, значит, письма. В письмах читатели возмущались аморальностью Соконина (некоторые иронически замечали: «Человек, о фактах которого наша пресса приводит такие разоблачения, – уже точно не медведь». Другие писали: «Чего можно ждать от человека, который мораль животного ставит выше нравственного образа нашего современника!» «Справедливо отмечалось в статье», «Неудивительно» и т. д.) и требовали убрать Соконина из популярного издания, так как страницы «Жизнь природы» читают их дети, даже до шестнадцати лет.
Надо сказать, к эпистолярному потоку руководство газеты не могло остаться безучастным, поэтому редактор отдела, смущаясь и путая слова, объявил Ивану Прокофьевичу, что страница себя изжила. По крайней мере на год-два.
Разгуливая по квартире и осторожно обходя спящего на полу Ваньку Грозного, Иван Прокофьевич продумывал план битвы за восстановление справедливости.
Животные в клетках прекратили светский обмен новостями, дабы Соконин мог размышлять в стимулирующей тишине.
Только гигант паук, выпущенный на прогулку из террариума, не оставил привычных занятий. Ему все было трын-трава.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Светка - астральное тело - Галина Шергова», после закрытия браузера.