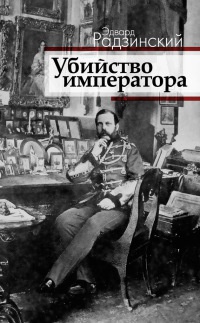Читать книгу "Анатомия террора - Леонид Ляшенко"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В срок Лопатин не уехал.
Он не мог уехать. Во все минувшие парижские дни Лопатин ждал, каждый день ждал, когда Тихомиров с Ошаниной, когда ж они вместе или порознь, хотя бы мимолетно, хотя бы намеком, коснутся дела, которое для него, Лопатина, много значило. Он не забыл тот ресторанный вечер с Дегаевым, когда едва не задохнулся от страшного, непостижимого: «Они знали, а ты не знал. Они скрыли, и ты ринулся очертя голову». Лопатин не желал, не в силах был уехать из Парижа, не получив объяснений...
Буи-буи – близнецы кухмистерских: суп как помои, мясо, отдающее кошатиной, винцо как разведенная синька. И посетитель – как в питерской или московской кухмистерской: малявка чиновник, старикашка учитель, подбитый ветром провинциал.
Будничное утро дрогло в перемеси дождя и снега. Свет не горел, в пустом сумеречном кафе было неуютно. Лопатину показалось, что Тихомиров и Ошанина смущены. Он приписал это смущение их догадливости. И точно, они догадывались, для чего понадобились Герману Александровичу.
– «Якобы»? – несмело улыбнулся Тихомиров.
Лопатин не понял.
– Ну как же, – глаза Тихомирова двигались толчками. – Помнишь Успенского? Нет? Он писал, что парижанин кормится «якобы»: якобы бульоном, якобы жарким.
Ошанина рассмеялась.
– Я предпочитаю хлеб да картофель, – сказал Лопатин. – Тут уж без подделки, без «якобы».
Тихомиров кивнул.
– Я предпочитаю честный хлеб, – настойчиво продолжил Лопатин.
– Я тоже, – приняла вызов Ошанина.
– А ты? – Лопатин взглянул на Тихомирова.
– Разумеется.
Подали жиденький кофе, плетеную корзинку с ломтиками хлеба.
– Лучше всего честный хлеб в честной компании, – не сказал, а словно вслух подумал Лопатин.
Тихомиров возил по столу плетенку.
– Видишь ли, Герман... Ты, может быть, прав. По-своему прав. Но пойми же...
– Господа, обойдемся-ка без предисловий. – Ошанина строго смотрела на Лопатина. – Итак, Герману Александровичу угодно слушать про Дегаева?
Не в Петербурге, не с «Яблонским» был Лопатин. У него не было желания обличать, изобличать, прокурорствовать, как полагала Ошанина. Он хотел понять: почему прошлой осенью, снаряжая его в поход, скрыли роль этого мерзавца?
– Собственно, не о Дегаеве, мать игуменья.
– Ну конечно, конечно, – жестко усмехнулась Ошанина.
Лопатин не принимал послуха, высокомерие «игуменьи» не пришлось ему по вкусу, он нахмурился. Тихомиров накрыл руку Лопатина своей сухой, горячей ладошкой. И заговорил, будто продолжая начатое раньше, до нынешнего утра.
– Поделиться было не с кем; в Женеве никого, в Морнэ никого. Решительно не с кем... Его исповедь потрясла меня, ошеломила. По счастью, я сохранил бесстрастие. Дал ему вывариться в собственном соку. Он и выварился, открылся до конца. Советоваться, повторяю, не с кем, а решать не мешкая. Что было делать? – Тихомиров убрал свою ладонь, опять поелозил хлебницей по столу. Спросил: – А ты? Что бы ты, Герман?
– Я?! – Лопатин дернул плечом. – Да я б его, сукиного сына, башкой в первую же пропасть!
Тихомиров как обрадовался.
– Представь: и я думал. И вот еще что: Дегаев, клянусь, подумал о том же. То есть чтобы меня... – Тихомиров быстрым жестом указал куда-то под стол. – Свидетелей нет, несчастный-де случай... Почему он не сделал – не знаю. Почему я... тоже не знаю. Впрочем... – Тихомиров не договорил, лишь слабо ухмыльнулся, будто признавая: «Где уж мне!» И продолжал: – Но тут еще вот что, Герман: Судейкин. Тот не по бумагам, не по спискам, тот на память многое и многих знал. Вот кого следовало устранить в первую очередь. Я предложил, Дегаев согласился. С радостью, так и уцепился, так и уцепился... Обещал немедленно прекратить выдачи. Но... И вот где собака зарыта – условие выставил: тайна полная, нерушимая, никто чтоб, ни единая душа. Иначе Судейкин учует, просочится, дойдет. Резон? Я и тогда и сейчас согласен: резон. Ибо господин инспектор был травленый волк.
Повлажневшая ладонь Тихомирова опять накрыла руку Лопатина. Лопатин опустил глаза, ему хотелось отнять свою руку. Тихомиров вздохнул.
– Иного не было. Тайна требовалась, согласись со мною. – Он помолчал. – К тому же я пригрозил: ежели не сделает, не убьет Судейкина – всю мерзость опубликую, а тогда дни его сочтены. Ты, Герман, пойми, я знаю...
Бледный, весь во власти тяжких воспоминаний, Тихомиров перевел дыхание. Все, что он сказал, Лопатин понял. Понял и принял. Но это было не то, что хотелось знать.
– Не самолюбие, вы ж меня не впервые видите, – сказал он с несвойственной ему просительностью. – Нет, господа, тут не самолюбие. Я не понимаю, никак не возьму в толк. Скажите на милость...
– Пожалуйста, Герман Александрович, – отозвалась Ошанина. Лопатин не атаковал, не обвинял, и она подобрела. – Хорошо. Давайте поставим все точки и все запятые.
– Тогда скажите, Мария Николаевна, вы-то?
Она парировала стремительно:
– Да. Знала, Лев мне открыл. Ничего странного: я член Исполнительного комитета партии «Народная воля».
«Бог о двух головах, – подумал Лопатин. – Ты да Лев – вот тебе и комитет». Лопатин мысль свою не вымолвил, но глаза Ошаниной сверкнули.
– Именно так, – произнесла она тоном «игуменьи». – Вы никогда не состояли в организации, а мы воспитаны на заветах Александра Дмитриевича Михайлова.
Лопатина загоняли в угол. Верно, он не состоял в «Народной воле». Отмахивался: «Я слишком вольнолюбив, чтобы подчиняться даже Исполнительному комитету». Ошанина, будто не отпуская Лопатина, добавила значительно:
– Теперь другое дело.
«Формальности», – подумал Лопатин гневно. Он возмутился. Старый революционер, старше этого Тихомирова и этой Ошаниной. Ему поверяли и не такие тайны... Лопатин сам остановил себя: какие тайны? Ответил по совести: подобных дегаевской не было. Вслух же сказал:
– Однако Дегаев и меня вполне мог продать Судейкину.
– Он поклялся прекратить выдачи, – поспешно возразил Тихомиров.
– И ты в это верил? Тихомиров смешался.
– Верил? – повторил Лопатин. И, звякая ложечкой о блюдце, такт отбивая: – Не ве-рил!
– Нас связывало слово, – по-прежнему быстро и твердо парировала Ошанина.
– Данное негодяю? Честное слово, данное негодяю, когда речь шла...
Она властно остановила Лопатина.
– Не я ли удерживала вас от поспешной поездки? И не вы ли смеялись: «Ах, мать игуменья, в революции всегда опасно»?
Опять-таки верно. Она предупреждала: «Сейчас опасно», а он смеялся: «Всегда опасно». Так было. Но ведь это ж опять формалистика. Лопатину стало не по себе. Что бы он ни возразил, во всем сквозило бы оскорбленное «я». Лопатин молчал. Молчал, беспомощно негодуя.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Анатомия террора - Леонид Ляшенко», после закрытия браузера.