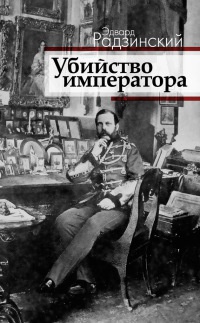Читать книгу "Анатомия террора - Леонид Ляшенко"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Что ж еще держало в Париже?
Суд над Дегаевым уже состоялся. Какой, к дьяволу, суд! У «матери игуменьи» Ошаниной, в квартирке на улице Флаттерс, сунули негодяю перо, бумагу – пиши. Писал Дегаев быстро, свободно. И словесные показания давал так же.
«Нравственный урод, – ежился Тихомиров. – Патологическая личность». Тихомиров не находил внятных причин, понудивших Дегаева изобличить самого себя. Не в Париже, а прежде, еще в Швейцарии. Известия из Одессы? Дегаев мог их отвергнуть. А иными Тихомиров не располагал.
Тихомиров помнил, как Дегаев в Морнэ, что называется, клюнул на идею какого-то компромисса с царским правительством. Однако мало ли какой бред завладевает «во дни сомнений»? Тихомирову приходилось признать, что Дегаевым руководила нравственная извращенность. Факт сговора с Судейкиным был понятен, примитивен, прост. Но факт измены Судейкину? Ведь нельзя же всерьез принять версию этого мерзавца: когда «употребить» Судейкина в видах революции не удалось, оставалось одно: убрать Судейкина. Это и совершилось. Вот и все. Не было преступлений провокатора, а были ошибки революционера. Вот и все. Ошибки зловещие, чудовищные, роковые, и он, Дегаев, готов платить сполна: изгнанием из партии, которой столько отдал... Нет, иезуитскую версию этого мерзавца Тихомиров не принимал. Стало быть: «Патологическая личность. Нравственный урод».
Ошанина, выслушав Дегаева, сурово, бесстрастно, как бы с незримой высокой высоты, уточняла: «Безобразная мания величия, упоение актерством. Ждет, чтоб восхитились его умением носить маску».
Лицедейство, любование собою приметил в Дегаеве и Лопатин. Но Лопатину представлялись узкими эти «медико-психологичесские диагнозы». Не здесь надо было ломать копья. Над другим стоило поразмыслить: как ничтожество, гомункулус вырастает в Личность, собственно, и не в Личность, а в какое-то гипнотическое подобие Личности? При Михайлове и Желябове, размышлял Лопатин, была действенная революционная борьба. Когда Желябовы сошли со сцены, возник Дегаев, человек второстепенный. Неофитам он показался «богатырем». (Тех, кому он таковым не казался – ну хотя бы этот флотский, этот Ювачев, – Дегаев поспешил выдать департаменту.) Мерзавец вождь пользовался капиталом предшественников, клялся их именем и молился на них. От прежнего геройского, цельного, без мелодрамы Исполнительного комитета ничего и никого не осталось. Организация продолжала существовать, но то уж был мираж, фата-моргана: правил маленький, хитрый, коварный «дегайчик».
Лопатин не скрывал этих своих размышлений. Тихомиров прибавлял, что и сам по себе человеческий материал, составляющий теперь организацию, не сравним с прежним.
Ошанина не отзывалась. Она не желала «растекаться мыслью по древу». Ее девиз: дело. Дело – это заговор, и только заговор. Ее аксиома: захват власти. Ее постулат: террор.
Лопатин знал, что Ошанина и дружит с Лавровым и недолюбливает Петра Лавровича. Тот поверял ей будничные «тайны», советовался в будничных заботах. Человек непрактичный, он считал Ошанину очень практичной. Она принимала его доверие и давала ему советы. Но едва Лавров отрицал пользу террора, заговоров, как Ошанина рубила сплеча: «Книжный педант. Ужасная умственная робость. Прячется, как маленький, за спиной взрослых авторитетов; пусть, мол, и ошибаюсь, зато в какой компании!»
С Жоржем Плехановым она не дружила, да, кажется, и почти не терпела его. Но едва Жорж замолвил словечко за террор, к тому же и замолвил-то ради красноречия, Ошанина расцвела майской розой.
Плеханова Лопатин встретил в прошлом году здесь, на улице Флаттерс, у Ошаниной. Жорж оброс бородой, ходил в обтерханных, с бахромой брюках, в пиджаке, вытянутом на локтях, но и этот костюмишко носил он с каким-то легким европейским изяществом. Щеки у Жоржа были впалые, бледные, они зловеще рдели чахоточным румянцем. Смотрел Плеханов сурово, подчас жестко, а улыбался обаятельно, подкупающе.
Плеханов тогда ненадолго приехал в Париж из Швейцарии. Швейцарию он ругал: «Идиллия, леденец. Все там мелко: и души, и природа, все какое-то филистерское. Там и гроза по-настоящему не разбушуется. Так, будто спичка чиркнет...»
Жорж искренне, бурно радовался лопатинскому побегу из вологодской ссылки, а Герман Александрович расхваливал плехановскую статью в «Отечественных записках». Плеханов смеялся: «Герман Александрович по обыкновению хватил через край!» Лукавил Жорж – польщен был и доволен.
Так вот, в прошлом году в «салоне мадам Ошаниной» речь, разумеется, зашла о терроре, о втором издании первого марта, о покушении на царя. Плеханов, давний и упорный противник «плаща и кинжала», вдруг как выстрелил: «Да что ж прикажете делать с этим толстолобым Митрофанушкой? Приходится трепанировать бомбой его неандертальский череп: может, тогда поймет политические требования современной России!» И Ошанина едва не расцеловала Жоржа.
Лопатин заговоры отвергал: «Преждевременные попытки меньшинства». Однако, не изменив своим убеждениям, он изменился сам: он терял терпение. И не это ль принимала Зина за утрату надежды на близость революции?
Он терял терпение. Однако полагал, что пойдет не в «заговор», а пойдет «от заговора». Странствующий рыцарь надеялся на странствующих рыцарей. Сознавая свою незаурядность, он не признавал своей исключительности.
Как и Тихомиров, Лопатин видел нравственный долг в том, чтобы вырвать остатки партии из тенет Судейкина и Дегаева. Поставить на ноги, вдохнуть новые силы. Долг был общий. Но оплачивать его каждый собирался по-разному, по-своему.
Тихомиров не юлил: в Россию не поедет, думал, да передумал, там ждет намыленная веревка, «во Франции и то не спишь спокойно»; дирижировать из эмигрантского безопасного далека не считает себя вправе; он, Тихомиров, литератор, перо его, как и прежде, принадлежит революции.
Можно было усомниться в личной храбрости Льва Александровича, и Герман Александрович усомнился. Нельзя было сомневаться в прямоте Тихомирова, и Лопатин не сомневался.
Лопатин тоже откровенно высказался: России нужны бойцы, и он поедет, испытывая потребность в практической деятельности. Хотя... хотя, сдается, не долго ему «гулять на воле».
«Чисто дворянское чувство благородства, – не без восхищения подумал Тихомиров. И погасил свое восхищение: – Вкус к блестящему, преобладание фантазии. К тому же, верно, мучается тем, что за всю свою радикальную жизнь не участвовал в общем коллективном деле».
Между Парижем и Петербургом лежал Лондон: противореча географической карте, это соответствовало географии души. К иному берегу Ла-Манша звали Лопатина старинные дружеские привязанности. Теперь, на этот вот раз, собираясь в Россию, он не надеялся, как бывало, на возвращение из России. Нет, он все еще верил в свою звезду. Но вдруг на какие-то мгновения чудилось, что звезда меркнет. За Ла-Маншем он не ждал утешений. Ни от Энгельса, ни от Тусси. Его покоробила бы самая мысль об утешениях: «Мавр, – говаривал Энгельс, – мог приходить в ярость, но ныть – никогда!» Ныть? Никогда! Звезда сияет. Гони в три шеи мрак предчувствий. И однако... однако...
Все сладилось в Париже: явки, шифры, каналы переписки. Согласовано основное, определяющее. Предусмотрены «мелочи», которые зачастую – уж он-то, Лопатин, знает – оказываются либо не мелочами, либо непредусмотренными. Настал срок, пора в дорогу: сперва в Лондон, потом – в Россию.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Анатомия террора - Леонид Ляшенко», после закрытия браузера.