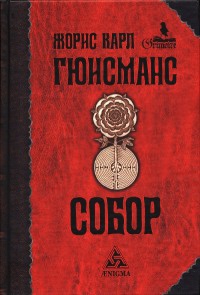Читать книгу "На пути - Жорис-Карл Гюисманс"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поразительно, какие у этих монахов превосходные голоса, думал Дюрталь. Когда Песнь Богородицы закончилась, он улыбнулся, ибо вспомнил: в первоначальной Церкви певца называли fabarius — бобоед, потому что для укрепления голоса он обязан был питаться бобами. А в обители бобы подавали часто: может, в том и секрет вечно молодых монашеских голосов!
О литургии и древних распевах он размышлял, куря сигаретку после вечерни.
Он припоминал символику канонических часов, которые ежедневно напоминают верующему о краткости жизни, вкратце воспроизводя ее течение от рождения до смерти.
Час первый, читающийся на рассвете, изображает отрочество, час третий — юность, шестой — расцвет сил, девятый — приближение старости, а вечерня — это аллегория дряхлости. Между прочим, она входила в состав всенощного бдения и некогда служилась в шесть часов: в тот час, когда в дни равноденствия солнце садится в кровавый пепел облаков. Наконец, повечерие звучало, когда наступала ночь, символ погребения.
Круг канонических служб — великолепный розарий псалмов; каждое зернышко на этих четках соотносилось с одной из фаз бытия человека; следуя за течением дня, богослужения следовали и за угасанием жизни, завершаясь самой совершенной из служб — повечерием, временным отпущением перед смертью, которую здесь изображает сон!
А когда от этих текстов, столь умно подобранных, от гимнов, столь крепко сплоченных, Дюрталь перешел к их священному облачению, звукам, к невматическим распевам, к божественной псалмодии, совершенно единообразной, совершенно простой, короче, к хоральным распевам, он не мог не констатировать, что везде, кроме бенедиктинских монастырей, к ним прибавляли органный аккомпанемент, насильно втискивали в прокрустово ложе современных тональностей, и под этим бурьяном они повсюду глохли, становились бесцветными и бесформенными, неудобопонятными.
Был среди палачей один, Нидермейер,{76} в котором осталось немножко жалости. Он попытался придумать более хитроумную и честную систему. Нидермейер не григорианский распев разминал и заталкивал в матрицу гармонии, а гармонию подчинил строгой тональности хорала. Так он сохранил его характер, но насколько же естественней было бы оставить старый распев сам по себе, не принуждать его тащить за собой ненужную и неуклюжую свиту!
Но хотя бы здесь, у траппистов, он жил и расцветал в безопасности: монахи его не предавали. Здесь он был по-прежнему гомофонный, по-прежнему его пели в унисон без аккомпанемента.
В этой истине он смог лишний раз убедиться вечером после ужина, когда в конце повечерия отец диакон зажег все свечи алтаря.
Молчальники трапписты стояли на коленях, закрыв лицо руками или склонив голову на плечо широкого балахона, и в этот момент появились три брата-рясофора; двое несли свечи, третий, впереди них, держал кадило, а в нескольких шагах позади шел приор, сложив руки на груди.
Дюрталь заметил, что рясофоры переменили одеяние. На них были не домотканые латаные-перелатаные рясы цвета булыжной мостовой, а красивые желтовато-коричневые, на которых резко белели новые плоеные стихари.
Пока отец Максимин в молочно-белой ризе с вытканным лимонно-желтым крестом клал гостию в дароносицу, кадилоносец положил кадило на угли, и из него закапали слезы настоящего ладана. Если в Париже зажженное кадило болтается перед алтарем и звенит цепочкой, словно лошадь трясет головой и звякает мундштуком с удилами, то в обители оно висело неподвижно и тихо дымилось за спиной у служащего.
Все присутствующие пели жалобную, печальную молитву Parce Domine, а затем Tantum ergo, великолепное песнопение, которое можно передать чуть ли не пантомимой: настолько чувства, последовательно выражаемые его рифмованной прозой, четки в своих оттенках.
В первой строфе создается впечатление, что поющий тихонько покачивает головой или, коль угодно, хватается за голову, свидетельствуя, сколь недостаточны чувства, чтобы выразить догмат о реальном присутствии Христа, о совершенном пресуществлении священного хлеба. Он восхищен и задумчив. Но прилежно выписанная, благочестивая мелодия не долго задерживается на утверждении слабости разума и всемогущества веры: во второй строфе она устремляется ввысь, воздавая славу трем Ликам Троицы, заходится от радости, и только в конце, где музыка придает новый смысл стихам святого Фомы, в протяжном и скорбном «аминь» признавая недостоинство получить благословение Плоти, распятой на том Кресте, образ которого рисует в воздухе дарохранительница, гимн несколько опамятуется.
И в то время, когда медленно поднималась спираль дымка, словно голубая кисея, из кадильницы перед алтарем, когда серебряной луной среди свечек-звездочек, мерцавших в темноте подступивших сумерек, воздымались Святые Дары, часто и нежно зазвонили монастырские колокола. И все монахи, стоявшие на коленях, закрыв глаза, поднялись и запели Laudate[110]на древний мотив, который поется вечером на возношении Даров еще и в Нотр-Дам де Виктуар.
Потом они друг за другом преклонили колени перед алтарем и так же по одному вышли, а Дюрталь с г-ном Брюно пошли в гостиницу, где их ожидал отец Этьен.
Он сказал Дюрталю:
— Я не мог пойти спать, не узнав, как вы себя чувствовали сегодня целый день.
А когда Дюрталь с благодарностью отвечал, что воскресный день прошел совершенно мирно, отец госпитальер улыбнулся и парой слов дал понять, что вся обитель, не подавая виду, была гораздо больше озабочена приезжим, чем он подозревал.
— Отец настоятель и отец приор будут очень рады, когда я передам этот ответ, — сказал монах и пожал Дюрталю руку с пожеланием доброй ночи.
В семь утра, перед завтраком, Дюрталь столкнулся с отцом Этьеном и сказал ему:
— Отец мой, завтра вторник, срок моего пребывания истекает, я уезжаю; как мне заказать повозку до Сен-Ландри?
Монах улыбнулся.
— Я могу дать поручение посыльному, когда он принесет почту, но послушайте, вы так торопитесь нас оставить?
— Нет, но я не хотел злоупотреблять…
— Вот что: раз уж вы так хорошо приладились к монастырской жизни, останьтесь-ка еще на два дня. В четверг отец прокуратор поедет в Сен-Ландри улаживать один спор, он и отвезет вас на станцию в нашей повозке. Вам и платить не придется, и дорогу вдвоем будет легче скоротать.
Дюрталь согласился и поднялся в свою каморку. Шел дождь. Удивительное дело, подумал он, в монастыре совершенно невозможно читать книгу; ничего не хочется; тут думаешь о Боге просто, а не через сочинения, посвященные ему.
Он машинально вытащил из груды маленьких книжечек, лежавших на столе еще в тот день, когда устраивался в келье, одну — «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы.
Он уже заглядывал в эту книгу в Париже; при новом перелистывании жесткое, почти неприятное впечатление, оставшееся от нее, не переменилось.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «На пути - Жорис-Карл Гюисманс», после закрытия браузера.