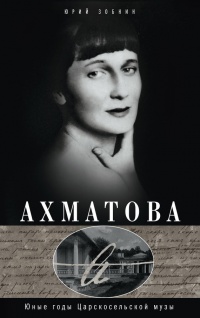Читать книгу "Дмитрий Мережковский - Юрий Зобнин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Нехристь, отступник, безбожник», отринувший Бога и царя, «зазнавшийся и возгордившийся» – не его ли любимый брат Константин?
За этим ходульным, «лубочным» образом – реальные, обжигающие его душу «слезы горькие»: он не может спать, слыша каждую ночь приглушенные рыдания Варвары Васильевны.
Кошмар этих дней многократным эхом откликнется в его будущих романах.
«…Петр выхватил плеть из рук палача. Все бросились к царю, хотели удержать его, но было поздно. Он замахнулся и ударил сына изо всей силы. Удары были неумелые, но такие страшные, что могли переломить кости.
Царевич обернулся к отцу, посмотрел на него, как будто хотел что-то сказать, и этот взор напомнил Петру взор темного Лика в терновом венце на древней иконе, перед которой он когда-то молился Отцу мимо Сына и думал, содрогаясь от ужаса: «Что это значит – Сын и Отец?» И опять, как тогда, словно бездна разверзлась у ног его и оттуда повеяло холодом, от которого на голове его зашевелились волосы.
Преодолевая ужас, поднял он плеть еще раз, но почувствовал на пальцах липкость крови, которой была смочена плеть, и отбросил ее с омерзением.
Все окружили царевича, сняли с дыбы и положили на пол.
Петр подошел к сыну.
Царевич лежал, закинув голову; губы полуоткрылись, как будто с улыбкою, и лицо было светлое, чистое, юное, как у пятнадцатилетнего мальчика. Он смотрел на отца по-прежнему, словно хотел ему что-то сказать.
Петр стал на колени, склонился к сыну и обнял голову его.
– Ничего, ничего, родимый! – прошептал царевич. – Мне хорошо, все хорошо. Буди воля Господня во всем».
…Чтобы хорошо писать – страдать надо, страдать!
В феврале – марте 1881 года пророчество Достоевского стало сбываться в жизни Мережковского.
Детство кончилось.
* * *
Два последних гимназических года многое меняют в жизни нашего героя. Его всегдашняя отчужденность от сверстников оказывается, наконец, преодоленной: возникают многочисленные знакомства, никогда, правда, не перерастающие в собственно дружбу,– особенность весьма любопытная, на которой стоит остановиться.
Всю свою жизнь – за одним только исключением, о котором будет сказано ниже, – он остается как бы органически неспособным к дружеской связи, подразумевающей обоюдный личный интерес и предельную личную же откровенность.
Мережковский почти никогда не позволяет себе откровений личного толка и в большинстве случаев остается если не глухим, то, по крайней мере, внутренне равнодушным к «личному» в жизни своих многочисленных знакомых. Представить его не то чтобы «сплетничающим», но даже сколь-нибудь живо интересующимся текущими обстоятельствами их быта– просто невозможно. Эта черта, вообще изначально симпатичная, в нем приобретает оттенок какой-то болезненности, тем более заметный на фоне традиционного русского тяготения к «разговорам по душам». Георгий Адамович, хорошо знавший Мережковского в последний, эмигрантский период его жизни, писал о безотчетной, инстинктивной непримиримости ко всякому проявлению русского дружеского «панибратства», даже самого невинного: «…Наши отечественные рубахи-парни и души нараспашку всех типов неизменно шарахались от него, как от огня». «У него не было ни одного друга, – подтверждает Зинаида Гиппиус. – Вот как бывает у многих, нашедших себе друга в университете, сохраняющих отношения и после. Иногда – реже – сохраняется даже гимназическая дружба. Но у Д‹митрия› С‹ергеевича› никакого „друга“ никогда не было. Множество дружеских отношений и знакомств, но я говорю не об этом».
Однако, странно нечувствительный к личной человеческой близости, он обладает огромной способностью к близости интеллектуальной, способностью заинтересовать, увлечь, привязать к себе людей не бытовым, но, так сказать, «бытийным» обаянием. «…Среди нас Д. С. был центром, – продолжает Гиппиус. – Но отнюдь не был он тем, кого называют „душой общества“. Никого он не „занимал“, не „развлекал“: он просто говорил весело, живо, интересно – об интересном. Это останавливало даже тех, кто ничем интересным не интересовался».
Уже в гимназии у него появляются не друзья, а «постоянные собеседники», проводящие многие часы в разговорах самого отвлеченного толка. В «Автобиографической заметке» Мережковский называет два имени – «очень благородного юношу» Ю. Н. Коррнбута-Кубитовича и Е. А. Соловьева, горячего поклонника Спенсера и Конта, убежденного скептика и материалиста (Соловьев станет впоследствии известным критиком и историком литературы, писавшим под псевдонимом «Андреевич»).
Отголоски этих «философических бесед» проявляются в гимназических сочинениях Мережковского. Так, в работе о Ломоносове он явно бравирует «либеральной» терминологией: «Значение писателя для современной ему эпохи определяется той долей общечеловеческого развития и просвещения, которую он приносит с собой; он может и должен быть не только поэтом, почерпающим свое откровение из отвлеченной области чистой красоты, но вместе с тем общественным деятелем, передовым бойцом истины и добра; могущество нравственного влияния, сила пламенного слова – вот его оружие; им пролагает он, как доблестный герой, свободный путь себе и своим последователям сквозь глубокий мрак коснеющего невежества, предрассудков и зла». Это невинное философское «фрондерство» привлекало сочувственное внимание как одноклассников, так и учителя словесности Мохначева, у которого Мережковский становится «первым учеником». Впрочем, репутация «возмутителя спокойствия» вскоре подтверждается и еще более необычным образом.
В выпускном классе Мережковский увлекается молье-ровскими пьесами и организует кружок энтузиастов для постановки на гимназической сцене «Тартюфа». Он сам проводит регулярные заседания, на которых делает пространные доклады, разбирая характеры персонажей, причем в таком остро современном и обличительном духе, что «мольеровским кружком» всерьез заинтересовались… агенты тайной полиции. Времена были смутные, всюду мерещились террористические заговоры. В конце концов, любителей Мольера вызвали повестками в известное здание у Цепного моста, где они долго разъясняли соответствующим чинам, что их пристрастие к «Тартюфу» не ведет к ниспровержению существующего строя. Деятельность кружка пришлось прекратить, а его руководитель получил первый в жизни наглядный урок того, что в России «слово воистину есть глагол».
Но, конечно, главным, что делало Мережковского популярной фигурой в глазах одноклассников, являлась его причастность к «большой литературе»: как уже говорилось, в 1880–1883 годах его стихотворения появляются в петербургской периодике. А для самого Мережковского вхождение в литературный мир было связано и с появлением в его жизни человека, который стал первым и единственным другом нашего героя.
Эти строки стали настоящим «символом веры» для поколения Мережковского.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Дмитрий Мережковский - Юрий Зобнин», после закрытия браузера.