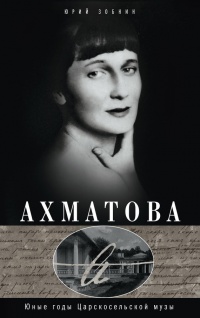Читать книгу "Дмитрий Мережковский - Юрий Зобнин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В начале двенадцатого с колокольни собора Владимирской Божьей Матери раздался медленный и гулкий колокольный звон. И, как бы откликаясь на него, со стороны Кузнечного послышалось пение:
На Владимирской площади толпа, крестясь и стаскивая шапки, расступилась: из переулка, высоко поднятый над головами притихших людей, проплыл гроб, обитый золотой парчой; следом два конюха в ливреях вели лошадей, покрытых попонами с гербами Александро-Невской лавры; пустые дроги, украшенные позолоченной бронзой, еле двигались среди бесконечных, растянувшихся по всему переулку траурных делегаций с огромными венками. Вокруг гроба на три-четыре сажени во все стороны студенты поддерживали руками непрерывные гирлянды из свежих цветов.
Возле собора процессия остановилась: священники стали служить краткую литию.
Какая-то старушка, испуганно озираясь на невиданное шествие, спросила у высокого, седого как лунь, представительного старика, стоявшего рядом с гробом:
– Какого генерала хоронят?
– Не генерала, а учителя, писателя.
– То-то, я вижу, много гимназистов и студентов. Значит, большой и хороший был учитель. Царство ему небесное.
– Кого, кого? – не расслышал стоящий рядом мужик.
Один из студентов, несущих гирлянду, громко – чтобы все слышали – сказал:
– Каторжника хоронят, отец. За правду царь на каторгу сослал. А ты думаешь, мы бы стали генерала хоронить?!
– За правду-у? – раздумчиво повторил мужик и вдруг, как будто что-то сообразив, снял шапку и перекрестился: – Ну, коли так, царство ему небесное, мы это тоже понимаем…
Вновь со всех сторон загремело «Трисвятое»:
Петербург прощался с Достоевским.
Среди этой бесчисленной толпы, охваченной, как вспоминали потом мемуаристы, каким-то особым, ни с чем не сравнимым религиозным чувством всеобщего единения, был и гимназист Митя Мережковский.
Он был потрясен.
Накануне, 29 января, когда петербургские газеты разнесли по городу скорбную весть, он запишет в стихотворной тетради:
Очевидно, что будущий автор «Л. Толстого и Достоевского» побывал в эти два скорбных дня в знакомой ему квартире в Кузнечном вместе с тысячами людей, день и ночь, непрерывным потоком проходившими перед гробом. Присутствовал он, видимо, и на воскресном погребении в Лавре – если не на самом Тихвинском кладбище (туда полиция пускала только специально приглашенных), то хотя бы у стен Духовской церкви. Если это так, то 1 февраля 1881 года здесь, на нескольких десятках метров, отделяющих паперть храма от кладбищенских ворот, разыгралась сцена, напоминающая гениальный трагедийный «пролог» к начинающейся творческой истории Мережковского: у гроба Достоевского сошлись почти все ее «главные действующие лица»: Анна Григорьевна Достоевская, Победоносцев, Плещеев, Михайловский – все они проходили перед маленьким гимназистом, оттесненным в толпе к низким стенам некрополя. И здесь же, среди зрителей, рядом с ним, еще незнакомые – Минский, Аким Волынский и, конечно, – Надсон:
Эти надсоновские строки – именно о тех мгновениях.
С уверенностью можно предполагать, что весь последующий месяц проходил у Мережковского – равно как и у его бесчисленных сверстников по всей России – «под знаком Достоевского». И, конечно, перечитывая совсем недавно вышедших «Братьев Карамазовых», он не мог не ощущать себя именно тем «русским мальчиком», кому покойный писатель прочил великую и трагическую будущность.
– Чтобы хорошо писать – страдать надо, страдать!
Страшную глубину этих слов он, вероятно, начнет немного понимать ровно месяц спустя, 1 марта 1881 года.
* * *
Не вызывает сомнения, что страшная гибель Александра II произвела на Мережковского тягостное, потрясшее его впечатление. Общее настроение тех дней очень точно выражено Н. Н. Страховым в письме Л. Н. Толстому: «…Бесчеловечно убили старика, который мечтал быть либеральнейшим и благодетельнейшим царем в мире. Теоретическое убийство, не по злобе, не по реальной надобности, а потому что в идее это очень хорошо!»
Для пятнадцатилетнего поэта цареубийство отозвалось прямо-таки фантастическим отголоском – его стихотворение «Завещание» («Вы могилу мне выройте, братья, / Далеко, далеко от людей, / Не прервал чтобы шум их суетный / Безмятежной дремоты моей»), находившееся в редакционном портфеле «Живописного обозрения», было вдруг, как наиболее подходящее по тону, опубликовано в траурной рамке на титульном листе по соседству с Высочайшим манифестом Александра III. Романтический лирический герой, созданный фантазией подростка, оказался, таким образом, alter ego убитого императора… Это, конечно, не могло не поразить воображение.
Однако для «томления духа» были и более серьезные причины.
Взрыв бомб Рысакова и Гриневицкого на набережной Екатерининского канала был слышен в доме у Прачечного моста. Сергей Иванович, срочно вызванный во дворец, приехал оттуда в слезах и рассказал домашним о смерти Государя:
– Вот плоды нигилизма, – повторял он. – И чего им еще нужно, этим извергам? Такого ангела не пощадили…
Константин, бывший тут же, счел невозможным из принципа не вступиться за «извергов». Это было последней каплей. Сергей Иванович выгнал сына из дома и, несмотря на мольбы жены (Мережковский позднее считал эту семейную трагедию одной из главных причин безвременной смерти матери), остался непреклонен – Константин до конца был для него окончательно «отрезанным ломтем»: ни общаться с ним, ни тем более помогать ему в устроении жизни Сергей Иванович не стал.
Что пережил за эти дни Мережковский, можно представить, если обратиться к удивительному тексту от 10 марта 1881 года, который сохранился в тетради стихов:
ПЛАЧ НАРОДА ПО ОСВОБОДИТЕЛЮ
Это стихотворение, прямо-таки невозможное в контексте «канонической» творческой биографии Мережковского (сам он, гораздо позднее, оставит на страницах juvenilia[5] характерное резюме: «Как я мог написать?») и, мягко говоря, далекое от художественного совершенства, очень показательно как человеческий документ, наглядно свидетельствующий о драматических метаморфозах души юного автора. Тихое обаяние детского сказочного мира с его добрым, нестрашным романтизмом завершается: история врывается в жизнь и творчество Мережковского – со всей ее суровой несправедливостью и кровью, с ее всегдашними двумя правдами, так очевидно и больно воплотившимися в его личной судьбе в «правду отца» и «правду брата». Чуть позднее он будет недвусмысленно склоняться на сторону последней, но во взглядах и принципах Сергея Ивановича, как теперь ясно, он тоже, несомненно, ощущал обаяние – то благородство консерватизма с его жертвенностью, чувством долга и высоким патриотизмом, отвергнуть которое без нравственного насилия над собой невозможно. История, жизнь и творчество вдруг переплетаются прямо на его глазах странным, неразрешимым образом, так что инвективы «плача», адресованные цареубийцам-народовольцам, рикошетом ударяют по самому родному и самому больному для него в это время:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Дмитрий Мережковский - Юрий Зобнин», после закрытия браузера.