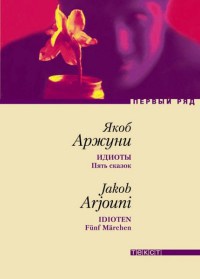Читать книгу "Якоб решает любить - Каталин Дориан Флореску"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
Когда пошел слух, что в Лотарингии нас ждет жизнь вряд ли лучше здешней, чуть ли не половина семей, собиравшихся уехать, передумала. Тем более многие вновь стали надеяться на возвращение родных из Сибири — поговаривали, что в соседние деревни вернулось несколько мужчин и женщин. На отъезд же были настроены в основном те, кто считал, что им будет там легче, потому что их фамилии похожи на французские или они немного говорят по-французски.
Утром 13 мая 1951 года на маленький полустанок в чистом поле, откуда обычно отправлялись в Темешвар, прибыли три состава. Один пассажирский и два товарных. Весь день до глубокой ночи люди свозили туда на лошадях и волах все, что не хотели оставлять в Трибсветтере: массивную, добротную мебель (швабы предпочитали такую) — буфеты, шкафы, кровати, столы; одежду, посуду, постельное белье и матрасы; плуги, мешки, под завязку набитые зерном, мукой и картошкой. Постепенно дворы отъезжающих — в каком-то смысле они все еще принадлежали им — пустели, а товарные вагоны наполнялись.
Священник Шульц упаковал дарохранительницу, дароносицу и церковные книги, затем несколько мужчин погрузили все это и алтарь на телеги. Когда повозки медленно тронулись, священник последовал за ними пешком.
Я тоже не остался в стороне и помогал, чем мог. Мой багаж — один чемоданчик — стоял наготове уже несколько дней. А вот отец держался от сборов подальше, метался, как тигр в клетке, и, казалось, боролся сам с собой. Потом он куда-то пропал и появился только после полуночи. Вагоны были уже заперты, и несколько мужчин остались ночевать у поездов, а остальные в последний раз легли спать в своих домах.
Мы лежали бок о бок и не спали — я и отец.
— Что ты теперь будешь делать? — спросил я.
— Как-нибудь проживу, за меня не волнуйся, — ответил отец.
На других дворах — я был уверен — швабы тоже не спали, а лежали и смотрели в темноту, как и мы. Теперь они жили в людских, в хлевах или ютились в одной из комнат дома, раньше принадлежавшего им целиком, а в остальных комнатах уже поселились румыны. Перед нашим новым переселением время повернуло вспять и воротилось к тем первым месяцам и годам, когда люди жили на болоте, в тесноте, мучились от тифа и любой болезни ничего не стоило выбрать себе новую жертву.
Я не сомкнул глаз, как Фредерик в ту ночь, когда принял решение бежать из Лотарингии. Чем глубже я погружался в раздумья, тем больше сомневался. Мне было двадцать пять лет, пускай в Трибсветтере я не мог стать хозяином земли, но жену нашел бы и здесь. Наверное, можно было бы прожить и среди свиней, оборванцем.
Я бы женился, отец жил бы со мной, и я терпел бы его, возможно, даже немножко любил бы. Может, я поступил бы в институт, как когда-то пророчил отец, ведь книги, что я успел прочитать, пробудили во мне тягу к знаниям. Не обязательно моя жизнь закончилась бы в Трибсветтере, но и на каком-то Богом забытом месте в окружении враждебно настроенных французов свет клином не сошелся.
И все же, когда забрезжил рассвет, я перелез через отца и собрался в путь. В ожидании условленного сигнала я сел на стул рядом с чемоданом, положил кепку на колени и уставился на отца. Его рука лежала поверх одеяла, на пальце был хорошо заметен след от обручального кольца, которое он носил больше двадцати лет. Я уже хотел было его разбудить, как вдруг он открыл глаза и посмотрел на меня. В ту же секунду на улице властно и пронзительно просвистел свисток священника.
Духовой оркестр, заказанный бургомистром, играл траурный марш, потому что в репертуаре румынских музыкантов были только траурные марши и свадебные песни. «Это ведь чем-то похоже на смерть» — так бургомистр объяснил свой выбор. Перед этим невыспавшиеся музыканты торопливо натянули форму, как будто наш отъезд был для них сюрпризом. В шапках, сдвинутых на затылки, и кое-как заправленных в брюки рубашках, они дудели для нас что было мочи, так они еще не играли ни на одних похоронах.
Перед каждым домом люди ждали своей очереди, чтобы присоединиться к колонне. Одни собирались идти пешком, другие запрягли телеги. Отличить уезжающих от провожающих было легко: первые держали в руках чемоданы или сидели на телегах. В семьях, где уезжали не все, братья и сестры, родители и дети подходили и наклонялись друг к другу, чтобы поговорить напоследок.
Матери держали за руки детей, которые потом едва ли вспомнят прежнюю жизнь, они будут искать ее в рассказах стариков, а может, и вовсе не будут. Уезжающие покидали опустевшие дворы, кое-где стояла брошенная скотина, за которой должны были ухаживать те, кто оставался. Некоторые просили соседей еще раз подтвердить, что те возьмут на себя заботу об их мертвых.
Отец шел рядом со мной, ни разу не взглянув на меня. Мы уже прошли мимо немой церкви, и поток людей пополнялся с каждой минутой. К уезжающим и тем, кто хотел с ними попрощаться, присоединились зеваки. Мы пересекли границу деревни — воображаемую, но для каждого ясную черту, отделявшую нас от остального мира, — и миновали Цыганский холм, на который посмотрел только я.
Бургомистр, шагавший рядом со священником сразу за оркестром во главе шествия, крикнул нам ускорить шаг. Но от этого мы пошли медленнее, словно нас держала тяжелая невидимая рука. Далеко впереди громко скрипнули шины, и на дорогу к Трибсветтеру свернула машина. Она ехала нам навстречу с большой скоростью и затормозила, не доезжая до нас.
Молодой офицер, лейтенант госбезопасности в сверкающих сапогах и ладно сидящей форме, вышел из автомобиля и, переговорив вполголоса с бургомистром, встал перед колонной. Водитель безучастно прислонился к машине и закурил сигарету, потом сплюнул на землю. А мы уставились на туго набитый кожаный планшет лейтенанта, предполагая, что там лежат наши паспорта. Над нами раскинулось сине-стальное небо, обещавшее славный денек.
Как только вся поклажа — тяжелые сундуки, сумки с провизией — была сложена на землю, мы обступили лейтенанта. Только отец остался в сторонке. Я посмотрел на него и заметил, какое у него мрачное, озабоченное лицо.
Бургомистр зачитал речь по бумажке: он пожелал нам блестящего будущего на новой старой родине и пообещал лично следить за тем, чтобы память о нас не оскверняли. Затем он передал слово лейтенанту. Тот, не теряя времени, вынул из планшета список и начал называть фамилии. Я надеялся, что окажусь в числе первых, что меня внесли в список под буквой «А» — Aubertin, но, не услышав своей фамилии в начале, не расстроился — значит, назовут ближе к концу, на букву «О». Тот, чью фамилию офицер называл, подходил к нему, жал руку и получал свой паспорт.
Очередь моей буквы быстро приближалась, к лейтенанту подходили люди с фамилиями на «М», потом на «N», и я уже приготовился выйти вперед и, как все, с достоинством произнести низким голосом: «Благодарю вас, товарищ лейтенант!» Но офицер перескочил букву «О», и по толпе пронесся гомон.
— В чем дело? — неуверенно спросил лейтенант. — Я кого-то пропустил?
— Меня! — крикнул я, подняв руку.
— Как фамилия?
— Обертин, товарищ лейтенант. Иногда пишут через «Au», но обычно через «О».
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Якоб решает любить - Каталин Дориан Флореску», после закрытия браузера.