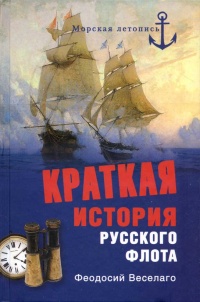Читать книгу "Картежник и бретер, игрок и дуэлянт - Борис Васильев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Не знаю, сколько времени так продолжалось. Потом выяснилось, что весь тот бой шел всего-то два часа восемь минут: Моллер засек время по своему брегету. А через полчаса после его начала противник изменил тактику — ох, толковый нам достался командир с той, вражеской стороны! Он приказал своим стрелкам вести огонь и во время конной атаки — до тех пор, пока свои всадники не перекроют им цели. Он сократил нам и без того считанные мгновения, когда мы могли хотя бы оглядеться, подбодрить друг друга, оттащить раненых в укрытие, отдать команды, наконец. Он как бы изолировал нас друг от друга, заставил каждого из нас драться только за себя, рассчитывать только на себя и бороться за собственную жизнь.
Теперь нам пришлось встречать атакующих всадников, едва выскочив из-за личного укрытия, не получив ясной команды, практически не ощущая плеча соседа. Так долго продолжаться не могло: каждый человек имеет предел личной выдержки и боевой выносливости. В конце концов слабое звено должно было лопнуть, и какой-либо из солдат, отупев от бесконечного напряжения собственных сил и собственного внимания, мог либо не успеть укрыться при обстреле, либо кинуться бежать в момент начала атаки…
— Патроны!.. — Я с трудом расслышал крик Моллера: чеченцы пошли в атаку, и конский топот вместе с их дикими криками заглушал слова. — Последний ящик… у расселины…
Я бросился к центру нашего холма, где прятались женщины и раненые. За мною почему-то сорвался с места Пров, но ранило меня, а не его. Ранило пустячно: зацепило бок, надломив ребро. Боли я не почувствовал, но кровь потекла обильно…
— Укройся и перевяжись!.. — кричал мне Пров. — Рану перевяжи!.. Я отнесу патроны!..
Он волоком потащил ящик за собою, а я нырнул в расселину меж двух колючих скал.
К сожалению, там уже было тесно от выбитых чеченскими пулями и раненных чеченскими шашками. Я оценил это мельком, успев подумать, что долго нам не продержаться. Сел у входа, торопливо сорвал с себя мундир, окровавленную рубаху. У кого-то попросил пороховницу, кто-то протянул мне ее. Я начал сыпать порох на рану: помню, дрожали руки. И я не глядел, как сыплю, а озирался с некоторым изумлением, что ли, если в той обстановке уместно употребить это слово. Изумлением потому, что в тесной этой щели всем распоряжалась Вера Прокофьевна, когда-то показавшаяся мне перепуганной до конца дней своих. Она споро и умело перевязывала раненых лоскутами их же рубах и остатками своих нижних юбок, не забывая бормотать притом такие женские и такие нужные солдатам слова:
— Потерпи, миленький, потерпи…
Генеральша тоже не сидела сложа руки. Она рвала на полосы остатки солдатского исподнего и собственных одежд, кому-то давала пить, кого-то утешала… Я успел подумать, что она — образец офицерской жены, да и Вера в скором будущем таковой станет, поджег трутом (вот кто мне его запалил, напрочь не помню…) порох на ране, взвыл от дикой боли, и тут в щель втащили Моллера.
— Принимай роту, Сашка… — прохрипел он сквозь зубы. — Расселся тут…
Не поверите, но я забыл о боли. То есть забыть о ней, конечно, было невозможно, но не воспринимать ее, что ли, я себя заставил. И выбежал из расселины.
На холме шла рукопашная. С криками, хрипами, стонами, проклятиями, матерщиной, лошадиным ржанием… Я подхватил чье-то ружье, в кого-то всадил штык, кого-то огрел прикладом — все уже как в тумане, как в тумане…
Мы и в этот раз отбросили чеченцев. Не потому, что я подоспел вовремя и заорал что-то воодушевляющее: атака и без меня уже захлебывалась, чеченцы начали откатываться. Я успел упасть за свой камень, обнаружил по соседству Прова. Спросил, помню:
— Цел?
— И не зацепило. Патроны я ребятам раскидал…
— Хорошо…
Опять начался обстрел, и мы примолкли, вжавшись в сухую, колючую землю, из-за которой, по убеждению Сурмила, и шла вся эта странная война. Мы выдержали пальбу и даже устояли в еще одной атаке, но устояли из отчаянных, последних сил, и я обреченно понял, что они — последние…
Залп громыхнул неожиданно и довольно близко. Добрый залп из двух горных орудий. Следом за ним еще один, еще, еще… Не знаю, откуда стреляли, где рвались ядра, а только чеченцы начали разворачивать коней…
Отдых. И душа, и тело заслужили его, а я — да и не только я! — все никак не мог заглушить в себе пальбу, крики, лошадиное ржание, предсмертные стоны. Может быть, потому, что к нам ходят как на экскурсию, только не с билетами, а с подарками.
Восемьдесят три стрелка вышли из Внезапной с двумя офицерами. А вернулось всего два десятка с половиной при одном, да и то раненом командире. Мы потеряли девятнадцать убитыми, да еще пятеро скончались от ран и потери крови. Дорого нам стало освобождение генеральской жены и ее компаньонки, но спасение женщин равно спасению солдатской чести, да к тому же спасли мы три жизни вместо двух. Три потому, что супруга генерала Граббе ожидала ребенка, хотя я узнал об этом позже. Да, мы стали героями, и о нас разговоров сегодня — во всех линейных крепостях.
Кусками, обрывками какими-то — да и то чаще в забытьи, чем в яви, — вспоминаю, как брели мы, чудом спасенные, к крепости Грозная по неласковой кавказской земле. Не брели — ползли, еле волоча ноги. Солдаты из Грозной тащили на себе наших обессилевших раненых, я тащился сам… Нет, нет, я на Прова опирался, счастливчика Прова, которого ни разу так и не зацепило. Ни клинком, ни пулей. А Сурмил с кем-то из грозненцев нес потерявшего сознание Моллера, голову которого бережно поддерживала Вера. В оборванном, окровавленном платье, с растрепанными и спутанными волосами… И генеральша — тоже оборванная и тоже почему-то окровавленная — шла пешком, опираясь на кого-то из офицеров Грозненского гарнизона…
А потом нас всех отправили в лазарет. Всех, даже целехонького Прова. Смутно помню, как меня осматривали врачи, как кто-то из них ворчал неодобрительно:
— Кровь остановить — это еще понятно. Но зачем он весь бок себе обжег?..
Бок и вправду горел как в аду. Чем-то они его помазали, и я уснул. Провалился часов на четырнадцать…
— Братцы, да ни при чем тут я!.. Я до Грозной и добежать-то не успел, глядь — батальон с артиллерией!..
Слова помню: я от них проснулся. А может, очнулся… Сурмил с побитым видом бродил по огромной нашей палате и виновато оправдывался:
— Да ни при чем я, братцы. Совсем ни при чем: кто-то другой Грозную по тревоге поднял…
Беслан… — подумал я. И опять провалился…
— Олексин! Господин Олексин…
Открыл глаза. Надо мною — черноусое незнакомое лицо. Тонкое, по-мужски жесткое и… и по-кавказски строго красивое.
— Очнулись? Павел Христофорович хочет задать вам несколько вопросов.
Увидел генерала Граббе за спиной черноусого подпоручика, попытался привстать, да боль подвела. Весь бок скрючило.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Картежник и бретер, игрок и дуэлянт - Борис Васильев», после закрытия браузера.