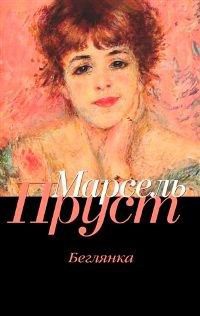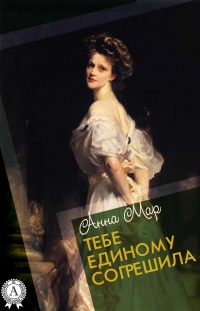Читать книгу "Вели мне жить - Хильда Дулитл"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пошёл дождь, вода хлестала по высокому окну, как в театральной декорации. Всё и было сплошной декорацией. Корф не мог быть всамделишным. Стены давили, окна забил плотный туман; они совсем извелись в комнатушке наверху и решили, что им нужен глоток свежего воздуха. Вот тогда он и сказал, что уезжает во Францию. Как — во Францию? Ведь там под стоптанными, сбитыми каблуками плавится асфальт: «надо бы починить туфли». Они вернулись тогда в Иль-де-Франс{30} и сели в тени на набережной; она раскрыла альбом и стала рисовать одну из головок, что украшают мост через Сену а он что-то писал на обороте конверта.
«Поцелуй меня, милочка, очень хочется сливочек», — подняв голову, пропел он развязно вслед барже, утюжившей Сену. Вода в реке была довольно чистая, — такие ли бывают городские реки! — на поверхности даже угадывалось небольшое течение: волна бежала по камешкам, увлекая за собой, с тихим плеском, пену, лодочный канат. Баржа скрылась из виду.
Ровно напротив, над противоположной стороной моста висел солнечный шар, — лучи слепили глаза, мешая рисовать. Она всего-то срисовывала каменный бюст, каких много в Париже, — обычно такие копии фавнов или сатиров, только гипсовые, используют в художественных студиях. Она упорно продолжала класть тени вокруг головы, зная, что это даёт ей ощущение времени, чувство перспективы и своего собственного положения в пространстве, — она прищурилась, как истый профессионал, измеряя на глазок ровную линию круга. Прикрытым глазом она, правда, с трудом различала натуру, зато ощущение пространства и собственного положения внутри круга было столь зримым, будто она вычертила окружность циркулем. Вокруг кипела жизнь.
— Жюли, что ты рисуешь?
— Да ничего особенного, так, интересный ракурс — то есть любопытная точка обзора…
— Я знаю, ты всегда начинаешь говорить уклончиво, когда наступает время пить чай. И что ты нашла в этой безликой копии с пустотой во взоре?.. — он не закончил фразу.
«Обзора — взора», — подумала она. Наверное, он подыскивает рифму для слова «взор» и не может найти. И не найдёт, заключила она, — мы столько раз играли в это слово: взор — обзор — зазор — дозор, из этого ничего не выжмешь, — либо меняй всю строчку, либо пиши скабрёзные стишки.
— А ты — ты пишешь пародию?
— «Ты всё возьмёшь, Галилеянин?»{31} — насмешливо переспросил он. Потом уже всерьёз: — «Но этого ты не отнимешь». С этими словами он скомкал конверт с адресом и маркой и кинул, метясь в воду. Но бумажный кораблик, не долетев до воды, упал у её ног.
Она разгладила помятый листок «Пора плодоношенья и дождей»{32}, — прочитала на обороте конверта. «Но это же Шелли», — воскликнула, намеренно делая ошибку, почти наверняка зная, что он тут же её поправит: «Не Шелли, а Китс». Но он, против её ожиданий, промолчал.
Стараясь не смотреть на адрес отправителя на конверте, она спросила:
— Почему ты сам не пишешь стихи? Ну, почему, скажи?
— В такое-то пекло? — услышала она в ответ.
О чём он думал, когда писал о «поре дождей»?
О Лондоне?
— Да, кстати…, — сказала она вслух, прогоняя воспоминания, — она в тот момент мыла за ширмой посуду.
Не заглядывая в комнату, она знала, что последует. В задумчивости он оторвёт взгляд от страницы и переспросит: «Что? Что ты сказала?»
И тишина — в комнате пусто. Никого нет. Это её пугало больше всего. «Так не может продолжаться, у меня всё время люди — обязательно кто-то заметит», убеждала она себя. Почему он вдруг начал читать «Мадригалы»{33}? Почему бросил? Ему нужна другая книга — какая же? Он точно не знает. Может, «Геспериды»{34}? И спросить не у кого. Его нет. Здесь нет. Она одна — впрочем, это даже лучше.
Вот они, «Геспериды» — лежат рядом, зачем далеко ходить? Всё — стопку книг, его коллекцию трубок, табак в специальной коробочке — всё это она воспринимала сквозь чёткую призму запавших в душу образов. Перед глазами стояла цветущая апельсиновая ветка с плодами, — протяни руку и достанешь — и это было сильней, чем всё окружающее. Только почему он смотрит так отрешённо?
«А как ты думаешь — о чём ты думаешь?» Не откликается. Что же ей сделать, чтоб он проснулся? Хлопнуть в ладоши? Разбудить: «вставай, вставай!» Только ради чего ж ему просыпаться?
Часы сдавили кисть, приковали к груди, легли тяжестью на сердце. Они, как камень, тянут её вниз.
Лёжа под простынёй, она приподняла руку — рука упала плетью. Сжала холодные пальцы в кулак. Да, наручные часы приковали её к этому ложу: они — цепь, камень, скарабей.
Если подумать, не так уж часто она бывала счастлива. Она попыталась припомнить счастливые минуты, но почему-то ничего не приходило в голову, — вспомнилась только ночь (накануне?), когда он пробормотал бессвязно во сне: «Вот в чём дело», а потом что-то о лошадях, которые понесли или запутались в постромках, — разобрать было трудно, — что-то о ездоке, резко осадившем, о бедных лошадях. Может, это была игра? Но в тот момент, лёжа с ним рядом, вся озябшая, боясь пошевелиться, она думала: «Пусть продолжает, пусть выговорится», — она ведь не знала, во сне он это или наяву. Может, лучше сделать вид, что не слышит, обнять, как прежде? — мучилась она сомнениями. Она так и не узнала, притворялся он в ту ночь спящим или бредил. Неужели играл, — играл тем, что она с такой заботой сберегла: их очагом, теплом постели, неизменной верностью себе, им обоим? Нет, не мог он этим играть.
Красота есть правда, правда — это красота.{35} Но что прекрасного в настоящем? Как знать, как знать… Два года, больше — теперь уже три — повсюду кричат о чести и жертвенности. Которую зиму сменяет ранняя весна, а время прокручивает одну и ту же ленту ужасов, — от этого немеешь и перестаёшь воспринимать расклеенные на улицах плакаты как всамделишные. Во всяком случае, на неё гораздо сильнее подействовало абстрактное изображение мук четвертованного святого угодника на картине фламандского художника в Лувре, чем натуралистическое описание не прекращающейся кровавой бойни, — видно, у них и впрямь атрофированы чувства, у неё так точно. Выходит, он прав, говоря: «Ты же ничего не чувствуешь».
Сейчас, наверное, семь или восемь утра, хотя нет, наверное, позже: не слышно топанья на лестничной площадке, — значит, девушки с военного завода, что живут наверху, уже отправились на работу. Похоже, и молочник уже приходил: сквозь сон она слышала, как звякнули бутылки о каменной порог их дома. Впрочем, она могла и ошибиться: она часто пропускает приход сынишки молочника, мужа Марты. Сам он, недавно сообщили, пропал без вести, — говорят, смыло волной с плота на переправе где-то в Месопотамии (Рейф называет сокращённо «Месоп»).
Уму не постижимо! Марта приходит, забирает бутылки с молоком, оставленные при входе, одну ставит возле её двери, другие разносит по этажам соседям-постояльцам. Очень может быть, что бутылка уже на месте, значит, пора вставать, а то ещё Марта пожалует к ней «прибираться», хотя в последнее время она их комнату обходит стороной, — господа сами «прибираются», вечно у них нет времени, да и гостей полно. Если ей всё же случится сегодня зайти, хуже нет: Марта будет плакаться ей в жилетку, рассказывать в сотый раз историю про мужа, который, как Робинзон Крузо, плыл по реке на плоту и вдруг… Месоп, Евфрат — прямо Библия какая-то!{36} Да, пора вставать.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Вели мне жить - Хильда Дулитл», после закрытия браузера.