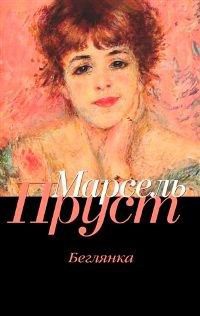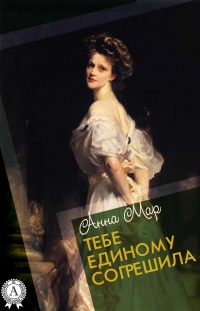Читать книгу "Вели мне жить - Хильда Дулитл"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Потом берёт её кисть, примеряя ремешок.
— Великоват, — замечает, застёгивая на последнюю дырочку. Встаёт. Шарит на столе, хлопает себя по карману, достаёт нож и начинает протыкать в ремешке отверстие.
— Что случилось?
— Я же говорю, у тебя слишком тонкое запястье (продолжая при этом делать отверстие).
— Ты так испортишь ремешок!
— Ты уверена? — переспросил он, пряча от неё лицо. Рядом были его плечи — плечи британского офицера на побывке. Он уезжает. Постарайся не думать про его плечи… Он сгребает её руку в свою ладонь. — Да, — говорит задумчиво, — тонкие пальчики. Ни на что не годятся, только одно умеют — держать перо.
Целует каждый пальчик, да только к чему всё это? Не надо плакать. Никто и не плачет.
— Тебе пора. Я ведь собиралась тебя проводить, — подожди, ещё не поздно, я с тобой.
Вместо ответа, он туго стянул ремешок у неё на запястье, оттянул свободный конец, проверяя, чтобы стальной язычок плотно вошёл в новое отверстие.
— Всё, теперь крепко, — заключил он.
— Да, ты прав, — откликнулась она, беспомощно дёргая за ремешок, пытаясь сбросить армейские часы, с которыми ты воевал последний раз в Лоосе, правда, Ленц?{25} Где это было? Где я? Ничего не вижу.
Он накрыл её руки ладонью. Ладонью — обе её руки.
— Мне они не нужны, чёрт возьми, — понимаешь? Я оставляю их тебе, чтоб ты хоть немного… — он не договорил. О чём это он? Она ничего не видела, — только грубый ворс гимнастёрки цвета хаки у самого подбородка. И пуговицы — она чувствовала, как они впиваются ей в шею, в грудь, — он слишком крепко её обнимал. Она молчала. Потом выдавила:
— Уходи, уходи, а то опоздаешь.
— Опоздаю, — повторил он, — ну и что, если опоздаю, чёрт побери!
— Не ругайся, не трать понапрасну слов.
— Пожалуйста, носи их ради меня, на счастье… Это такая малость, такая малость в сравнении…
Она рыдала в подушку. Слава Богу, не при нём. Внизу стукнула входная дверь — и глухо захлопнулась, точно снаружи висел густой туман, гасивший все звуки.
Почему он решил отдать мне свои часы? Они не остановились, продолжали тикать. Он очень осторожно закрыл за собой дверь, видно, не хотел, чтоб она знала, что он ушёл. Но она всё равно знала. Когда входная дверь захлопнулась, она поняла: он вышел. Ушёл. Так бывало раньше. Что же, и дальше так будет? Однажды в Корф-Касл она дала ему понять, что любовь сильнее смерти. А в действительности — так ли это? Пожалуй, да. Носит же она в себе смерть, и ничего — жива. Значит, она сильнее. А вот любовь… Всё произошло стремительно — за какой-нибудь год, два… Но разве два, три года — это мало? Напротив, много.
Много времени. Время. Оно всё тикает и тикает.
Теперь она знала, почему часы — живые: это из-за светящихся стрелок Хочешь, не хочешь, а проснёшься, когда у тебя перед глазами горят ярко-зелёные стрелочки; ведь верхний свет он, конечно, потушил, выходя из комнаты. Спрашивается, зачем? Оставить её одну, беспомощную, в постели с выключенным светом — спи, мол. От слёз у неё лицо пошло красными полосами. Полосами? Она вспомнила полоску у него на рукаве — первую, за храбрость. Он тогда прислал ей всё своё жалованье. А она отправила его обратно. Ей хватает пособия, которое родители присылают из Америки, — даже те деньги, которые она получает как жена боевого офицера, и те отправляет ему на фронт: пусть угостит других солдатиков (ему совсем недавно присвоили звание капитана) кофе или пивом — словом, тем, что найдётся в Богом забытых траншеях, под проливным дождём. Что, там всё время льёт?
Мысли её витали далеко. Душа воспрянула, воспарила; лёжа в постели, она чувствовала лёгкое головокруженье: свободна! Конечно, ей не о чем тужить. Зачем? В одиночестве она потихоньку придёт в себя, отдохнёт после последней его побывки, наберётся сил для следующей, если, конечно, следующая будет — если он вернётся. Он же смертник, столько раз умирал: уезжая, каждый раз шёл на верную гибель.
«Я не вернусь», — сказал последний раз. Но вернулся же! А сейчас? Сей час? Ах да, часы. Они всё тикают, стрекочут, — шепнула она себе. Помнишь Флоренцию, — как-то на май они купили там кузнечика в корзинке, а потом отпустили. У флорентийцев водится обычай — вплетать травинки в сувенирные корзиночки и сажать туда цикаду или кузнечика, — по его словам, это идёт от Феокрита{26}. Они тоже отдали дань флорентийской забаве: купив корзинку, опрокинули её над охапкой ярких гвоздик при входе в кафе под полосатым навесом напротив купели, — то-то смеху было, когда увидели вконец обалдевшее насекомое на цветке! Вокруг стоял жуткий грохот, — рядом с их столиком заворачивали за угол трамваи. Всюду пестрели ярко-красные гвоздики, — он называл их «кровавыми гребешками». Ничего себе, гребешки! Кровавая тризна Кербера{27} — вот что это такое!
Он дал ей часы напоследок, как будто они виделись в последний раз. И так всегда. Что ж, значит, так тому и быть. Против воли она вспомнила Морган и её дурацкие выходки, вроде той, когда она заснула на одной с ней кровати, — вот здесь, в своей малиновой сорочке. «Прошу только — дайте мне у вас остаться, я лягу на полу», умоляла Морган. И они пожалели её: «Ну, зачем же на полу? Рейф ляжет на раскладушке за ширмой — оставайтесь». Это было одно из числа многих неудобств, создаваемых Морган, — если она отправлялась вечером в гости, домой ночью она уже не возвращалась. Внушать ей, что так нельзя, что это извращение, было бесполезно: нужно знать Морган. В тот раз они её выручили, — утром вместе, втроём, позавтракали в этой комнате. А дальше? Что будет дальше? А дальше Морган будет спать в этой постели уже с ним, Что, ты этого ждёшь?
— Вы, конечно, скажете моему Стивену, что я провела ночь у вас, если он или кто-то ещё спросит, хорошо? Наверняка, никто не спросит, но всё-таки…
— Конечно, скажем, — успокоили они её.
Непривычный звук клаксонов новых такси, цоканье старых фиакров, резкий запах бензина. И опять гвоздики, только белые, крупными шапками, всё в каплях воды, — он поливал их из французской бутылки с дырочками, которую держал рядом с цветочным ящиком: trois sous la botte.[3]Они сравнивали эти летние парижские гвоздики с весенними, флорентийскими. Те росли в низкой бочке, на самом пекле и, казалось, совсем не нуждались в прохладе навеса. Сидя за столиком кафе, они с Рейфом ели свежую малину, — часов не наблюдая, безотчётно следя за тем, как по площади передвигается тень от Duomo.[4]{28} Сейчас им в нос бил запах французского бензина, их смешили парижские киоски, уличные urinoirs,[5]зазывавшие на каждом шагу: «Зайди — не пожалеешь». Он отшучивался: «Снаружи веселее». Париж! Асфальт плавился под ногами. Лувр, оказалось, был закрыт. Понедельник — выходной. И как они могли забыть? Вот жалость! Побрели по мосту в музей Клюни{29} — там вдоль стен выставлены готические барельефы. Ей не хотелось копировать готику, зато в музее было прохладно, и они остались. Рисуя, заглядывали друг другу в альбомы: у него всё выходило мелко и дробно, у неё композиционно получалось лучше, только очертания размыты. У него, наоборот, — всё приземисто и слишком чётко. Они во всём дополняли друг друга — даже в эскизах. Он шутил: «Из нас двоих мог бы получиться художник».
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Вели мне жить - Хильда Дулитл», после закрытия браузера.