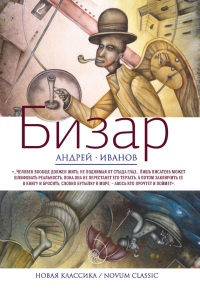Читать книгу "Вечный Жид - Сергей Могилевцев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Гримм. Он был фанатиком?
Лодовико. Скорее реалистом. Все мы, служившие на Кавказе достаточно долго, должны были в конце концов изведать то ли чеченской шашки, а то и чеченкой пули, так что к факту возможной смерти каждый из нас относился спокойно. Но Степанович отличался от других неким особенным фатализмом.
Гримм. Особенным фатализмом?
Лодовико. Да. Представьте себе, сидим мы однажды и режемся не то в вист, не то в штосс, и говорим об этой самой предопределенности, об усмешке судьбы, от которой никому из нас не уйти. И вот Степанович в самый разгар этих споров неожиданно встает с места и снимает со стены заряженный пистолет.
Гримм. Заряженный пистолет?
Лодовико. Да, заряженный пистолет. В головах у полковника, а мы обычно собирались у него на квартире, висело обычно несколько заряженных пистолетов, а также чеченских ружей, которые, между нами, ни в какое сравнение не шли с нашими ружьями из-за их миниатюрных, почти что детских прикладов. Черт знает, откуда у этих горцев, которые, не побрезговав, могли отрезать голову взрослому человеку, и были в бою сущими дьяволами, эта страсть ко всему миниатюрному и игрушечному? Возможно, тут дело в национальном характере, и распространяться на эту тему я не хочу. Речь о фатализме и о Степановиче, нашем боевом товарище, который посреди игры ни с того ни с сего снимает со стены заряженный полковничий пистолет и приставляет его к виску, заявив нам, что если ему суждено погибнуть тогда-то и тогда-то, то сегодня умереть он не сможет никак.
Гримм. Неужели он так вам и сказал?
Лодовико (с жаром, подавшись вперед). Поверьте, так и сказал, и притом с таким выражением на лице, с таким блеском в глазах, который может быть только у одержимого маниакальной идеей.
Гримм. У одержимого маниакальной идеей?
Лодовико. Да, идеей предопределенности, или фатума, согласно которой каждый гибнет в назначенный ему день и час, ни секундой раньше и ни секундой позже, так что сколько ни спускай себе в висок полковничий пистолет, это никоим образом на жизни его не отразится.
Гримм. Безумец, неужели он так и сказал?
Лодовико. Не только сказал, но и сделал у нас на глазах! Выстрелил себе в висок из полковничьего пистолета, который, представьте себе, дал осечку, так что полковник даже обиделся, поскольку всегда держал оружие взведенным и готовым к бою!
Гримм. Вы говорите, что пистолет дал осечку?
Лодовико. Да, пистолет дал осечку, и у Степановича даже волос не упал с его головы, хотя он и был в эту минуту бледен, словно сама смерть. Знаете, бывают такие мгновения в жизни, когда старуха с косой словно бы проходит мимо тебя, и ты чувствуешь у себя на лице страшное дыхание смерти. В эти мгновения человек словно преображается, лицо у него становится совершенно чужим, как будто он уже видит перед собой ту адскую бездну, в которую когда-нибудь обязательно упадет. Точно такое же лицо: страшное, бледное и чужое, – было и у Степановича, когда он спускал курок полковничьего пистолета. Мы все, стоявшие вокруг, просто дрожали от страха и непонятного предчувствия, а я так прямо ему и сказал: «Сегодня вы непременно умрете, это написано у вас на лице!»
Гримм (порывисто). А он, что вам ответил он?
Лодовико. Он в ответ только лишь презрительно улыбнулся и заявил, что сам факт осечки заряженного и совершенно исправного пистолета как раз и доказывает его теорию фатума; теорию предопределенности, согласно которой каждый умирает в свой день и час, и никакие события в жизни не могут нарушить этот заранее предопределенный ход вещей.
Гримм. И вы с ним согласились?
Лодовико. Я? Конечно же нет! Я был уверен в своей правоте и опять заявил, что он сегодня непременно умрет, поскольку такое выражение на лице, которые было у него перед осечкой, бывает только в преддверии смерти. Другие мои товарищи тоже что-то ему говорили, одни поздравляли со счастливым концом безумного эксперимента, и даже отдавали ему все свои деньги, которые были у них в карманах, говоря, что такому везунчику, как он, деньги не помешают; другие, наоборот, ругали его почем зря, но все, тем не менее, чувствовали, что вечер напрочь испорчен, и пора расходиться кто куда может.
Гримм. И вы разошлись?
Лодовико. Да, мы разошлись по своим съемным квартирам, по всем этим хибаркам, казацким домам, казармам и чеченским саклям, служащим для многих единственным прибежищем уже много лет. Ушел и я к себе, под кров одноэтажной казацкой хаты, где у ворот, как обычно, подстерегала меня хозяйская дочка Настя, блестя у калитки своими ослепительными зубами и черными, как смоль, глазами. Признаться, давно я был неравнодушен к этим ее, похожим на бездонные омуты, черным глазам, и в другое бы время обязательно остановился и сорвал поцелуй с ее губ, но сейчас только лишь прошел мимо, бросив дорогой: «Не сейчас, Настя, в другой раз!»
Гримм. Вы вообще равнодушны к женщинам?
Лодовико. Ну что вы, я их обожаю! Я, знаете ли, вообще по жизни и по складу характера гетеросексуал, и, бывало, не мог равнодушно пройти мимо любой мало-мальски задранной юбки, и даже мимо незадранной, даже мимо вполне приличной юбки я тоже никогда не мог равнодушно пройти, а тут словно бы кто-то извне, какой-то демон равнодушия и холода, заставил меня обидеть бедную Настю!
Гримм. Вы ушли к себе, и на этом все кончилось?
Лодовико. Напротив, на этом все и началось! Как только я прошел на свою половину, слыша за спиной вздохи и упреки моей Насти, и, раздевшись, погрузился в беспокойный сон, так сразу же, примерно часа в четыре утра, меня разбудили громкие голоса.
Гримм. Разбудили громкие голоса?
Лодовико. Да, голоса моих товарищей офицеров, которые кричали мне, чтобы я одевался и присоединялся к ним. Они говорили, что случилось нечто ужасное, и что дорогой все мне расскажут.
Гримм. И вы пошли вместе с ними?
Лодовико. Да, я пошел вместе с ними. Дорогой мне, разумеется, все рассказали, хотя вокруг был большой переполох: куда-то впопыхах бежали полуодетые и сонные казаки, на ходу пристегивая свои шашки, голосили казачки и чеченские женщины, отдавали приказы офицеры, и в этой суматохе было трудно что-либо услышать. Но в конце концов я все же понял, что мой Степанович, которому я предсказал скорую смерть, нарвался в темноте на пьяного казака, зарубившего до этого спавшую в луже свинью, и, может быть, прошел бы спокойно мимо, да, на свою беду, спросил у него, кого он ищет. Казак ответил: «Тебя, голубчик!» – и, взмахнув шашкой, разрубил несчастного Степановича надвое; тот только и успел промолвить: «Он прав!» – и тут же на руках у подоспевших людей испустил дух.
Гримм. Он, разумеется, имел в виду вас?
Лодовико. Когда говорил: «Он прав!»? Ну конечно, меня. Я, таким образом, оказался в роли вещуньи, в роли пророка, предсказавшего его скорую смерть. Которая, кстати, сделала из меня, убежденного противника всяческих суеверий, такого же убежденного фаталиста. (Внимательно смотрит на Гримма.) Вот видите, моя история вас явно заинтересовала, вы, можно сказать, искренне сопереживали героям, о которых в ней говорилось, и, следовательно, повели себя, как человек, не лишенный души; душа у вас явно есть, и с вами можно, поэтому, поговорить по душам! Извините уж за этот вынужденный каламбур!
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Вечный Жид - Сергей Могилевцев», после закрытия браузера.