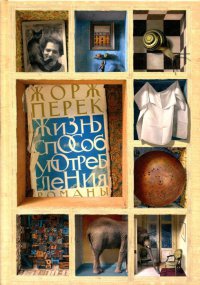Читать книгу "Лабиринт Один. Ворованный воздух - Виктор Ерофеев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И после Чехова — тоже одни мечтания: декаданс, модернизм, символизм, патологический Сологуб, бесноватый Белый, авангард, акмеизм, словесная метель 20-х годов, все эти Замятины, Пильняки, и — большая мечта соцреализма. То холодно, то горячо, только ровного света и тепла нет. И никто не посмотрит на русскую историю взвешенно.
«— В самом деле, хорошо бы написать историческую пьесу, — сказал Ярцев, — но, знаете, без Ляпуновых и без Годуновых, а из времен Ярослава или Мономаха… Я ненавижу русские исторические пьесы все, кроме монолога Пимена. Когда имеешь дело с каким-нибудь историческим источником и когда читаешь даже учебник русской истории, то кажется, что в России все необыкновенно талантливо, даровито и интересно, но когда я смотрю в театре историческую пьесу, то русская жизнь начинает казаться мне бездарной, нездоровой, не оригинальной».
Мы — против крайностей. Нам смешны те, кто пишет статьи под названием «Русская душа» с таким, с позволения сказать, содержанием:
«…Интеллигентный человек имеет право не верить в сверхъестественное, но он обязан скрывать это свое неверие, чтобы не производить соблазна и не колебать в людях веры; без веры нет идеализма, а идеализму предопределено спасти Европу и указать человечеству настоящий путь».
«— Но тут ты не пишешь, от чего надо спасти Европу, — сказал Лаптев…
Помолчали минуту. Федор вздохнул и сказал:
— Глубоко, бесконечно жаль, что мы с тобой разно мыслим. Ах, Алеша, Алеша, брат мой милый! Мы с тобой люди русские, православные, широкие люди; к лицу ли нам все эти немецкие и жидовские идеишки? Ведь мы не прохвосты какие-нибудь, а представители именитого купеческого рода».
Да, конечно! Хотя с другой стороны — нет! Кому, как не нам, знать о том, что азиатчина — погибель для России. Все мы «московские Гамлеты» с одинаковой жалобой:
«А между тем, ведь я мог бы учиться и знать все, если бы я совлек с себя азията (здесь и далее в цитатах курсив мой. — В.Е), то мог бы изучить и полюбить европейскую культуру, торговлю, ремесла, сельское хозяйство, литературу, музыку, живопись, архитектуру, гигиену: я мог бы строить в Москве отличные мостовые, торговать с Китаем и Персией, уменьшать процент смертности, бороться с невежеством, развратом и со всякою мерзостью…»
«— Мы темень! — доносится из другого рассказа. — Видим, что вывеска написана, а что она, какой смысл обозначает, нам и невдомек… Носом больше понимаем… Ежели водкой пахнет, то значит — кабак, ежели дегтем, то лавка…»
Так кто кого родил? Интеллигенция — Чехова или Чехов — интеллигенцию? Он нас родил, а мы его родили — взаимородились. Нас только на время занавесили красной тряпкой. Мы никогда не были идеологическими людьми — это выдумка Достоевского. Но мы тоже иногда любим поспорить, потосковать.
Мне кажется, французскую культуру у нас насаждали отнюдь не французы. Европу мы приглашали в одну дверь, выталкивали — в другую. От фонвизинского «Бригадира» через весь девятнадцатый век наша литература боролась с французским засилием.
Мне кажется, если у Гоголя французы — черти, то у молодого Чехова французы — дураки. Чем провинились французы перед Антошей Чехонте? Что они ему сделали?
Валери писал о пошлости текста, начинающегося словами:
«Графиня вышла в пять часов».
Мне кажется, русский текст, начинающийся словами:
«Жан вышел в пять часов», —
будет непременно гадким. После Пушкина (который в традиции классицизма воспринимал своих иностранных персонажей как мировых героев, их поди назови иностранцами) все иностранцы были карикатурны (у Пушкина, впрочем, тоже: в «Дубровском»), «Жан вышел…» — уже карикатура. Наша литература не переваривает иностранных имен. Они для нее — человеческая пародия.
Мне кажется, наша литература настолько загоняет иностранный характер в стереотип национального поведения, что определение национальности становится более значимым, нежели характер любого иностранного героя. «Жан» никогда не оправдается, у него нет алиби, он всегда иностранец, при любых обстоятельствах, в каждом своем поступке. «Жан» отчужден раз и навсегда. Он — другой. «Жан» в нашей литературе недостоин имени человека. В «Жане» нет души, это кукла. Он может быть иногда описан по-человечески, но даже в самом добром, сентиментальном, со слезой описании сквозит удивление:
«Смотри-ка, он почти такой же, как мы».
«Жан» порой хорош на запасных ролях, но в герои ему не пробиться. Наполеон всегда хуже «Жана»-гувернанта.
А вам не кажется, что пресс отчуждения, который русская литература накладывает на иностранных героев, говорит о какой-то внутренней несвободе при всей той свободе, которая вроде бы традиционно ею исповедуется? «Жан» всегда остается угрозой, а угрозу надо либо уничтожить, либо высмеять, в любом случае, нейтрализовать.
Мне кажется, смерть иностранца — не трагедия, а фарс, забавная история. Проследить, как ослабляется гуманистическое чувство по отношению к иностранцу, значит установить меру ненастоящности иностранца. Чеховский «бессрочно отпускной рядовой» Гусев знает, кого спасать:
«— Крещеный упал бы сейчас в воду — упал бы и я за ним. Немца или манзу не стал бы спасать, а за крещеным полез бы».
Поистине садомазохистский взрыв страстей вызывает это глубокое, подспудное отчуждение от «манзы», тревожно-сладостное, ни с чем ни сравнимое ощущение кольца иностранной блокады.
Мне кажется, межнациональная тема в русской литературе — самая срамная тема.
Чехонте играет с французом, как кошка с мышкой. Его юмор предопределен «народной» ксенофобией. Он не ставит ее под сомнение, но поощряет и дополняет своими наблюдениями, становясь ее аморфным носителем. Как выразитель общего настроения он интересен не как субъект, а как объект.
Герой рассказа «Глупый француз» — французский клоун Генри Пуркуа. Клоуны — положительные герои в мировой литературе, их образы строятся на контрасте. Клоун у Чехонте — знак отчуждения, сигнал к недоверию. Клоун понят и взят дословно как клоун, без психологического слома; он дурачится, потому что дурашлив. Его «говорящая» фамилия Пуркуа (Почему) превращает его в амебу.
Итак, Генри Пуркуа зашел в московский трактир позавтракать, заказал «консоме» и занялся наблюдением публики.
«Как, однако, много подают в русских ресторанах! — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины маслом. — Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?»
Первая мысль клоуна — преодолеть свое удивление (снять психическое напряжение) сравнением с чем-то родным:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Лабиринт Один. Ворованный воздух - Виктор Ерофеев», после закрытия браузера.