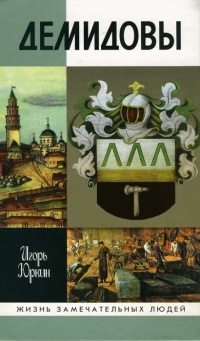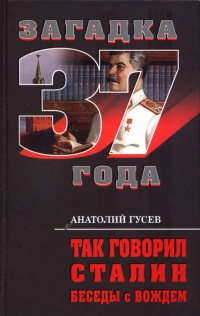Читать книгу "Карамзин - Владимир Муравьев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вот мой эпилог: благодарю всех тех, которые брали на себя труд читать „Московский журнал“.
В прошедшем году я два раза отлучался из Москвы, и сии отлучки были причиною того, что некоторые месяцы журналы выходили не в свое время. Строгие люди обвиняли меня, снисходительные прощали. Теперь обязательство мое кончилось — я свободен.
Но сия свобода не будет и не должна быть праздностью. В тишине уединения я стану разбирать архивы древних литератур, которые (в чем признаюсь охотно) не так мне известны, как новые; буду учиться — буду пользоваться сокровищами древности, чтобы после приняться за такой труд, который мог бы остаться памятником души и сердца моего, если не для потомства (о чем и думать не смею и что было бы, конечно, самою смешною, ребяческою гордостию), то, по крайней мере, для малочисленных друзей моих и приятелей.
Между тем у меня будут свободные часы, часы отдохновения; может быть, вздумается мне написать какую-нибудь безделку; может быть, приятели мои также что-нибудь напишут, — сии отрывки или целые пиесы намерен я издавать в маленьких тетрадках, под именем… например, Аглаи, одной из любезных граций. Ни времени, ни числа листов не назначаю; не вхожу в обязательство и не хочу подписки; выйдет книжка, публикуется в газетах — и кому угодно, тот купит ее.
Таким образом, „Аглая“ заступит место „Московского журнала“. Впрочем, она должна отличаться от сего последнего строжайшим выбором пиес и вообще чистейшим, то есть более выработанным, слогом, ибо я не принужден буду издавать ее в срок.
Может быть, с букетом первых весенних цветов положу я первую книжку „Аглаи“ на алтарь граций; но примут ли сии прекрасные богини жертву мою или нет — не знаю.
„Письма русского путешественника“, исправленные в слоге, могут быть напечатаны особливо, в двух частях: первая заключается отъездом из Женевы, а вторая — возвращением в Россию.
Драма кончилась, и занавес опускается».
Для читателей прекращение «Московского журнала» было огорчительной неожиданностью, оно казалось чуть ли не капризом издателя. Но решение Карамзина имело серьезные основания.
Уже в объявлении о подписке на «Московский журнал» на 1792 год внимательный читатель мог обнаружить тревожные ноты. «Издаваемый мною журнал, — писал издатель, — имел бы менее недостатков, если бы 1791 год был для меня не столь мрачен; если бы дух мой… Но читателям, конечно, нет нужды до моего душевного расположения». О душевном расположении Карамзина речь уже шла. Недоброжелательное отношение большинства членов новиковского кружка к его литературной деятельности, с которыми был он связан в течение четырех лет, которых уважал и был им многим обязан, выматывающая атмосфера в доме Плещеевых, постоянная изнурительная работа, приведшая к болезни — видимо, нервному истощению с головными болями, — все это очень тяжело переживалось Карамзиным. Одновременно он чувствовал, что его втягивает, помимо его воли, могущественная политическая интрига.
«Конец ее царствования был отвратителен», — напишет Пушкин о Екатерине II в 1834 году. Карамзину пришлось жить как раз в «отвратительные» годы, на которых лежит печать отнюдь не «Великой Екатерины», а ее последнего фаворита; жадность, невежество, мелочность, животный страх за собственное благополучие и безопасность, мстительность, ненависть к уму, образованию, таланту, тщеславное презрение ко всему окружающему — эти черты Платона Зубова становились чертами государственной политики и общественной морали.
Московские масоны еще в середине 1780-х годов почувствовали, что вызывают какую-то особую, непонятную и необъяснимую неприязнь у императрицы. Московский главнокомандующий граф Брюс по ее именному распоряжению — и это было известно масонам — в 1785 и 1786 годах производил обыски в лавках Типографической компании, изъял книги, которые духовная цензура нашла противоречащими истинному православию; по приказу Екатерины Новикова вызывали для допроса в Управу благочиния к архиепископу Платону для испытания в законах православной веры.
Иван Владимирович Лопухин, служивший при московском главнокомандующем, вынужден был уйти в отставку, так как понял, что любая, даже самая маленькая, его оплошность будет раздута и послужит поводом, чтобы с позором выгнать его со службы.
Особенно усилилась слежка с февраля 1790 года, когда московским главнокомандующим стал князь Прозоровский — боевой генерал и исполнительный служака. Письма, адресованные масонам, доставляли с почты с большой задержкой и распечатанными. Нетрудно было догадаться, что их прочитывали и снимали с них копии, видимо, для отсылки в Петербург.
Московские масоны не знали за собой вины и были уверены, что стали жертвой оговора. Лопухин придумал ловкий ход: написать письмо, в котором рассказать о настоящих делах и мыслях масонов. Письмо наверняка попадет к императрице, и разъяснится недоразумение. Лопухин написал письмо. Оно было адресовано Кутузову в Берлин: заграничные письма обязательно перлюстрировались. С письма Лопухин снял две копии, одну оставил дома — на всякий случай, другую давал читать знакомым.
Письмо действительно было написано хорошо: имело вид частного и в то же время естественно касалось самых важных пунктов обвинения масонов: безверия и приверженности революционным теориям.
«…Здравствуй, друг любезнейший! Я довольно здоров, слава Богу. Здесь настала зима, и Москва-река замерзла. Итак, теперь точно то время, в которое, ты знаешь, что друг твой гораздо охотнее и больше обыкновенного шагает по улицам. Ведь и это господа примечатели, не имеющие приметливости, кладут мне на счет мартинизма. Однако ж рассуждения их, право, не стоят того, чтобы я для них лишил себя лучшего средства к сохранению моего здоровья.
Очень обеспокоен тем, что давно не имею писем от Колокольникова и Невзорова. Они в Лейдене, окончив курс учения, получили докторство и намерены были для практики ехать в Париж, как делают обыкновенно все учащиеся медицине. Требовали на то моего совета и денег на путешествие. Я к ним писал, чтоб они в Париж не ездили, потому что я, в рассуждении царствующей там ныне мятежности, почитаю за полезное избегать там житья, а ехать, куда посоветуют профессора лейденские, но кроме Франции. Послал им денег уже тому более двух месяцев, но по сие время ответу не имею. Не знаю, что с ними приключилось.
Подумай, братец, нашлись такие злоязычники, которые утверждали, будто они во Францию посланы от нас воспитываться в духе анархическом. Можно ли говорить такие нелепости? Да и можно ли разумному человеку усмотреть в посылке бедных студентов иное намерение, кроме того, какое есть в самом деле, то есть помочь им приобрести ремесло честное и отечеству полезное.
Я не знаю, почему оные господа вздумали, что мы охотники до безначалия, которого мы, напротив, думаю, больше знаем вред, нежели они, и по тем причинам отвращение к нему имеем. Они воспевают власть тогда, когда, пользуясь частичкой ее, услаждаются и величаются над другими. А как скоро хотя немного им не по шерстке, то уши прожужжат жалобами на несправедливости и прочее. Кричат: „Верность! Любовь к общему благу!“ Полноте! Хуторишки свои, чины да жалованье только на уме. А кабы спросить этих молодцов хорошенько, что такое верность, любовь, — так они бы стали пни пнями.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Карамзин - Владимир Муравьев», после закрытия браузера.