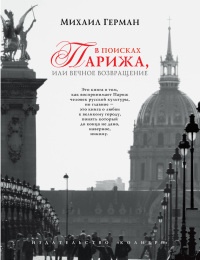Читать книгу "Парижские подробности, или Неуловимый Париж - Михаил Герман"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но он странно ведет себя, этот советский литературный вельможа: когда Бунин спрашивает его о Бабеле или еще о ком-нибудь из погубленных в СССР писателей, лицо Симонова каменеет и он отвечает жестко, по-военному: «Не могу знать!»
Симоновское благополучие меня пугает. Самое большое, станет хорошим беллетристом. Он неверующий. ‹…› Симонов ничем не интересуется. Весь полон собой. Человек он хороший, поэтому это не возмущает, а лишь огорчает. ‹…› Это самые сильные защитники режима. Они им довольны, как таковым, нужно не изменить его, а улучшить. Ему нет времени думать о тех, кого гонят. Ему слишком хорошо.
Это из дневника Веры Николаевны Буниной. Ее приговор точен и безжалостен. Бунин же – недолго – отчасти сохранял некоторые иллюзии.
Симонов читал Бунина, он не обижен талантом и знает толк в большой литературе, он понимает, глядя на это сухое, властное, все еще прекрасное, надменное и усталое лицо, кто перед ним, но все его нутро «сталинского сокола» протестует против эмигрантской язвительной независимости. А для Бунина этот самоуверенный, почтительный красавец – оттуда, из большевистского страшного мира, из «окаянных дней». Но ведь – и из России, с ее до слез любимыми местами, воспоминаниями, языком, книгами…
Шарманщица
Можно все это представить себе. А вот понять до мучительной глубины этих людей, это время, это беспощадное противостояние, странно соединенное с взаимным интересом и даже восхищением, – вряд ли.
Бунин колебался. Все же мечтал об издании своих книг в России. А потом началась травля Ахматовой и Зощенко, и Бунин уже не думал о возвращении, мыслей своих не скрывал. Да и сталинский режим забыл о послевоенных – вялых и лицемерных – либеральных мечтаниях, и привычную ненависть к эмигрантам снова стали вбивать в наши души…
Впервые стоя в 1980 году перед могилой Бунина на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, с удивлением глядя на непривычный каменный крест, еще раз думал, как поздно узнал Бунина, как мало знает его все мое поколение. Пятитомное Собрание сочинений Бунина впервые после революции вышло приложением к «Огоньку» только в конце пятидесятых. Подобное (и то в смысле откровенности) мелькало лишь в каком-то очень декадентском варианте – скажем, в ранних стихах Брюсова. Какие-то сцены в романе Куприна «Яма» или у Горького казались пределом возможного. Мопассан, Ренье, Дос Пассос, Хемингуэй – вот что было точкой отсчета. У Бунина за всем и всегда стояла страсть, не по-русски открытая, мощная и радостная, в ней была распахнутая красота, неведомая прежде русской словесности «эстетика сексуальности», лишенная непристойности или ханжества (мощная эротика Чехова молчалива и скрытна, она открывается только очень опытному и вовсе не юному читателю). И знание тайн отроческого подсознания, о которых никто прежде не писал. И эта потрясающая, так мне дорогая предметность, зримость, то, что Набоков с раздражением (таким несправедливым!) называл «парчовой прозой Бунина»…
Зимний парижский закат, огромное панно неба в мутных мазках нежных разноцветных красок над дворцом Палаты, над Сеной, над бальной площадью Согласия. Все эти краски блекнут, и уже тяжело чернеет дворец Палаты, сказочно встают из чернеющей мути заката силуэты дальних зданий и повсюду рассыпаются тонко и остро зеленеющие язычки газа в фисташковой туманности города, на сотни ладов непрерывно звучащего автомобилями, в разные стороны бегущими со своими огоньками в темнеющих сумерках. Вот и совсем стемнело, и уже блещет серебристо-зеркальное сияние канделябров площади, траурно льется в черной вышине грозовая игра невидимой башни Эйфеля, и пылает в темноте над Бульварами грубое богатство реклам, огненный Вавилон небесных вывесок, то стеклянно струящихся, то кроваво вспыхивающих в этой черноте.
Вот эти тени «Темных аллей», вот эти зарницы великой прозы, без которой для русского сознания беднеет Париж…
Многое в «моем квартале» сохраняет отпечаток элегической и поэтичной серьезности. И пустынная, с единственным, что редкость в Париже, кафе – известным местом встреч литераторов и издателей, – суровая и изысканная площадь Сен-Сюльпис со стройным фонтаном, украшенным статуями знаменитых ораторов-епископов, за светлыми струями которого так хороша знаменитая церковь. Но и бульвар Сен-Жермен, да и сам Латинский квартал[237]совсем рядом, веселый квартал, по вечерам залитый пышным театральным светом, приют туристов и фланеров, квартал-витрина, квартал-аттракцион для иностранцев, но сохранивший прелесть старины и подлинного Парижа благодаря узким улочкам – ruelles, древним домам и, разумеется, памяти…
Парижанки
Какая густота воспоминаний и ушедших людей, реальных и придуманных (и кто из них живее?), какие сплетения судеб! Ватто, д’Артаньян, Мариус с Козеттой, и Хемингуэй, и Ахматова, Верлен, Анри де Ренье и каждый, кто побывал в моем квартале, в мыслях или наяву, старики, вспоминающие забытые звонки трамваев на бульваре Сен-Мишель и грустящие об ушедших пятидесятых, темнокожие студенты Сорбонны, настороженно и восторженно привыкающие к своему и чужому еще Парижу, и, наконец, вечные сторожа в Люко, каждый вечер кричащие «Оn ferme, on ferme!» («Закрываем!»), – все они здесь дома.
А ежели воскресным не ранним утром (до полудня город почти пуст – la grasse matinée[238]), спустившись по бульвару Сен-Мишель, свернуть направо и пройти по улице л’Аббе-де-л’Эпэ мимо древней, простой и стройной церкви Сен-Жак-дю-О-Па[239], а потом лабиринтами узких улочек добраться до «хемингуэевской» площади Контрэскарп, то можно оказаться на знаменитой Муф (прозвище улицы Муффтар). Так и случилось с нами однажды, в февральский, холодный для Парижа полдень – градусов пять выше ноля. Звуки Муф казались сначала обычными воскресными звуками: рынок имеет свою оркестровку, крики продавцов, их веками срежиссированная веселая перебранка – фарсовый театральный вариант колоритно описанных Золя ссор торговок в «Чреве Парижа».
В самом ее низу, у собора Св. Медара, где шумел традиционный рынок, начинала собираться по-особенному оживленная, сосредоточенно радостная маленькая толпа. Корректно накрашенные дамы, юные барышни со светло распахнутыми веселыми глазами, одетые не то чтобы нарядно, но старательно и празднично, что нынче редкость, подтянутые, до глянца выбритые господа. Большинство же – в том возрасте, который во Франции определяется деликатным выражением «entre deux âges»[240].
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Парижские подробности, или Неуловимый Париж - Михаил Герман», после закрытия браузера.