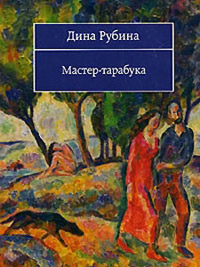Читать книгу "Детородный возраст - Наталья Земскова"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Значит, так: я Та, Которая Катается На Льду. Не Та, Которая Лежит и Ничего Не Может, а Та, Которая Катается На Льду. Это называется – переименоваться.
Мы бегали в парк Победы – благо, он был совсем рядом – и катались на катке. Есть даже фотография: стою на льду на коньках, в «беременных» штанах и нелепой шапке.
Бессознательная юность – великое дело. Помнится, я и на учете-то нигде не стояла, но у меня и мысли не было, что это может плохо кончиться. Помимо коньков я летала самолетом, ездила на велосипеде, зачем-то посещала сауну и совершала массу совершенно излишних перемещений, и, когда меня все-таки упекли в роддом чуть раньше положенного, я искренне горевала о не догулянных на свободе трех-четырех днях, мечтая скорее вернуться в строй.
Сейчас не могу даже читать – слава богу, хоть спать получается. И, получается, спать – мое единственное развлечение. Во сне мне хотя бы не страшно.
Саше зарядили магнезию. Реутова, которая в восемь должна была уйти домой, не ушла и всё время заглядывает к нам. Саша то ли дремлет, то ли в прострации, словно это утро застыло вокруг нее. В конце концов, она совсем молодая, есть время на попытки и перемены. Не то что у меня. Но ведь этим ее не утешишь.
Матка недовольно напрягается, сжимается и начинает ползти вниз. Опять забыла про руки! Руки на живот, согревать и разглаживать, сейчас всё пройдет. Не думать, не думать. Нет, она точно живет своей, независимой от меня жизнью, которая подчиняется непонятно каким законам.
Вдруг девчонка приподнимается и растерянно просит:
– Позовите врача. У меня потекло что-то…
Вика приводит запыхавшуюся Реутову, и та сразу же приказывает вызвать «скорую»:
– В перинатальный.
* * *
Толстобров велит мне думать о хорошем. Но координаты не уточняет. Запретила себе думать о будущем – приходится о прошлом. Прошлое – это детство, юность и более-менее взрослая жизнь. Детство и юность – отсутствие опыта, зависимость, а главное – незащищенность. Потом, годам к тридцати, вырастает панцирь, в который в случае чего можно и спрятаться.
А тут наступает самое вкусное десятилетие нашей жизни – от тридцати до сорока. У кого-то от двадцати восьми до тридцати восьми, у кого-то от тридцати двух до сорока двух. Пьянящее ощущение свободы: тьма возможностей, а к ним бездна времени. Можно то, можно это. А можно вообще всё задвинуть подальше, потолок еще далеко.
Мои от тридцати до сорока, точнее, от двадцати семи до тридцати семи – это газета, Олег и Ольга. Впрочем, Ольгой ее никто никогда не звал – все называли по фамилии: Шуман. Фамилия не родная, по мужу, но Ольга ее при разводе оставила, как сделал бы всякий пишущий человек. И когда газета, в которой работала Шуман, попадала мне в руки, я искала только ее фамилию. Ольга писала материалы на «человеческие» темы, которые всегда оказывались срезом какого-нибудь культурно-социального явления. Естественно, ими зачитывались. Сидя у себя на кухне глубокой ночью и наслаждаясь очередным оригинальным извивом ее мысли, я воображала Шуман толстой старой еврейкой. Ну, может быть, не очень старой, но обязательно толстой и обязательно еврейкой.
Статья, «адресованная» мне, начиналась так: «Она прожила не свою жизнь…» Это я теперь понимаю: господи боже мой, кто же из нас ее свою-то прожил? Может быть, один из десяти. А тогда будто небеса разверзлись, и Тот, Кто Выше Всех, сказал: «Маша, делай же что-то со своей жизнью». Называлась статья «Письма самой себе» и рассказывала о том, как жила-была женщина, вышла замуж не за того, профессию получила не ту, двадцать лет просидела не там, то есть в каком-то НИИ, и, чтобы не сойти с ума, по выходным писала себе письма, оказавшиеся чудесной прозой. История настолько совпадала с моей (разве что писем я себе не писала и в своем «НИИ», будь он неладен, высидела всего пять лет), будто кто-то всё про меня разузнал и донес этой Шуман.
Прочитала я ту статью раз тридцать, а потом написала сразу два заявления: на развод и увольнение. А через полгода уже работала в газете, и сидели мы с Шуман в одном кабинете.
Но сначала я к ней пришла. Без договоренности, без звонка. Решила: если застану ее на месте и разговор получится – значит, там, наверху, это мне разрешили.
И мне разрешили. Отрыдав у нее часа два, я полетела в садик за ребенком, а Шуман, как потом мне рассказывала, до вечера сидела в оцепенении с единственной мыслью в голове: вот так, напишешь всякую ерунду – и сломаешь человеку жизнь.
Ни еврейкой, ни тем более толстой она никогда не была. Тридцатитрехлетняя шатенка, в девичестве Третьякова.
Мы не виделись года три-четыре, но разве можно забыть ее по любому поводу ликующие глаза и обращенный к тебе интерес! Только Шуман могла бы помочь мне сейчас, и я знаю, что бы она сказала. То же, что и всегда. В очередной раз, когда у меня рушился мир, она спрашивала со своей очаровательной картавостью:
– Машка, ну скажи, скажи, неужели тебе никогда не было хуже, чем сейчас? Говори честно.
– Не было, Шуман, не было. Честное слово.
Она расцветала в улыбке:
– Ну вот, видишь, значит, дальше будет только лучше, потому что критическую точку ты уже миновала.
Если же ответ звучал: было, конечно, было, – она улыбалась еще лучезарней:
– Ну вот, значит, и это вытерпишь.
Был у нас художник Гена Зорин. Отработал он в газете лет пятнадцать, сказал, что это его разрушает, и переехал в заброшенную деревню – писать и радоваться жизни. Не видела его лет шесть, а тут случайно на вокзале столкнулись прямо перед моей свадьбой, и Генка говорит:
– Ой, Машка! Только вчера с тобой разговаривал, а вот теперь повидались!
– Не могли, – говорю, – Гена, мы с тобой нигде разговаривать ни вчера, ни месяц назад. Тебе, наверное, показалось. Ты здоров?
– Ой, прости, прости. Я объясню. Видишь ли, чтобы поговорить с нужным или просто приятным тебе человеком, совсем необязательно его видеть и слышать. Это понимаешь только на хуторе, в одиночестве. Мы частенько с тобой беседуем. И с тобой, и с Ольгой.
Вот и я теперь как Гена научилась. Сижу (лежу!) на хуторе.
Но мне не хочется говорить о своем состоянии. Мне нужно – не говорить. Поэтому я запретила приходить в больницу всем, кроме Алеши и Ани. Анька бывает редко: начался одиннадцатый класс, подготовительные курсы. Алеша – каждый день, хотя работает за городом, а живем мы в двух часах езды от больницы. Он не знает, чем мне помочь, да и, собственно, нечем.
Не надо, не надо, не надо про это. Буду снова думать про Ольгу. Такого искреннего, неподдельного интереса к людям, как у Шуман, я никогда ни у кого не встречала. Она сама была насквозь настоящая, без примесей.
– Ты, Оля, натуральное дерево, дорогих пород, – сказал ей какой-то поклонник, и этот комплимент она хранила.
Шуман была напичкана историями и людьми. Даже в устных мимолетных ее рассказах эти люди превращались в героев, действия которых обретали тайный смысл и высокую цель. И я заражалась этим интересом, хотя вне Ольгиной системы координат персонажи часто становились безжизненными куклами, лишенными воли и стратегии жизни.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Детородный возраст - Наталья Земскова», после закрытия браузера.