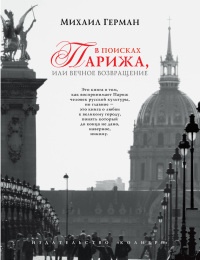Читать книгу "Брисбен - Евгений Водолазкин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ночь в мюнхенском доме накануне концерта. Мы втроем и прилетевший накануне Нестор. Биографическую книгу обо мне он пишет медленно, но тщательно. Теперь эта биография развивается на его глазах.
Перед концертом никто не может заснуть – включая Геральдину, у которой для этого свои причины. Получив контрамарку на концерт, она просит еще одну – для садовника.
– Мы пойдем вместе, – говорит Геральдина. – Мы впервые куда-то идем вместе.
Выдавая вторую контрамарку, пытаюсь угадать, знает ли об этом садовник. В прежнее время он ничем, кроме цветов, не интересовался – ни концертами, ни Геральдиной. Впрочем, жизнь в отсутствие хозяев здесь не стояла на месте.
Как-то незаметно все собираются в Вериной комнате. Геральдина приносит на подносе снотворное.
– Выступающим снотворное принимать опасно, – предупреждает Нестор. – Непонятно, как оно подействует днем.
В конечном счете лекарство не принимает никто. Чтобы раскрепостить Веру, присутствующие по очереди рассказывают забавные случаи. Вера не раскрепощается, скорее даже наоборот.
Услышав о том, как когда-то по случайности я надел на концерт домашнюю байковую куртку (зал решил, что так было задумано), Вера бросается проверять свое сценическое платье. Рассказ о том, как я однажды забыл ноты и сочинял мелодию на ходу, оборачивается волнением по поводу нынешнего репертуара.
У Веры начинает идти носом кровь, ее укладывают на кровать, и она лежит, запрокинув голову. Кровь долго не могут остановить. Геральдина приносит завернутый в салфетку лед, его кладут Вере на лоб и на переносицу. Когда Катя уже готова вызвать скорую помощь, кровь неожиданно останавливается. Постель и овечья шкура у кровати в алых каплях: Вера несколько раз вставала.
У Кати начинается тихая истерика. Пока с Верой разговаривает Нестор, она шепчет мне:
– Концерт Веру добьет, его нужно отменить.
– Если что ее и добьет, то это отмена концерта, – так же шепотом отвечаю я.
Катина истерика заканчивается так же внезапно, как и началась. Нестор, попрощавшись со всеми, уходит. Катя укрывает Веру и ложится рядом – поверх одеяла. Я, сев на овечью шкуру, прислоняюсь спиной к Вериной кровати. Начинаю рассказывать сонные истории. Они ничем не примечательны, и в этом их сила. Успокоительны и снотворны. Я в детстве много таких слышал.
Рассказываю о том, как не спал ночь накануне выпускного экзамена по истории. Учил билеты, боролся со сном при помощи кофе. Под утро решил немного отдохнуть, но заснуть уже не смог. Тогда мать села рядом и стала рассказывать о Брисбене, где очень длинный сезон дождей. Климат там субтропический, и дожди вроде бы теплые. Идут круглые сутки, так что река Брисбен переполняется и разливается по долине. Под дождь хорошо думать. Читать. И, конечно же, спать. Уже засыпая, почувствовал, как мать накрыла меня пледом. Сквозь полузакрытые веки вижу, что Вера и Катя спят. Мне не хочется идти в спальню, и я устраиваюсь на овечьей шкуре. Подтягиваю колени к животу. Волнения больше нет. Спокойствие и уют.
Вере снится концерт. После недели репетиций она знает о нем всё, вплоть до мельчайших деталей. И ничего другого за последние дни ей не снилось. Кате снится приезд скорой помощи: кровь у Веры никак не останавливается. Алым стало всё: постель, пол, подоконники, они с Глебом и даже Геральдина со своим садовником. Усилием воли Катя приоткрывает глаза, но вполне не просыпается. Видит, что всё в порядке. Замечает свернувшегося на шкуре меня. Пытается улыбнуться, но прежде чем уголки ее губ успевают подняться, она уже снова спит, и ей снится, что она улыбается.
Мне снится, как много лун тому назад, въезжая весенним днем в Английский сад, пообещал себе всё вспомнить. Вот я переезжаю через ручей по бревенчатому мосту. Брёвна мелодично стучат под колесами велосипеда – одно за другим. Это похоже на большой ксилофон, из которого резиновое прикосновение извлекает приглушенные глубокие звуки. Потом асфальт. За ним – утрамбованный грунт велосипедной дорожки. Когда колеса наезжают на корни, в велоаптечке сыпко бренчат инструменты. С зубцов слетает цепь. Надевая ее, невозможно не вымазать пальцы. Осторожно, чтобы не коснуться джинсов, мизинцем выуживаю из кармана бумажный платок. Вытираю им пыльное лицо и запачканные руки. Лицо становится ýже, подбородок острее, вены уже не оплетают рук с той непреклонностью, которую демонстрировали еще при въезде в сад. Молодею невероятно быстро. Седые волосы начинают срочно темнеть, исчезают морщины под глазами и под носом, но главное – главное, что рука больше не дрожит. Движения уверенны и плавны, плечи развернуты, фигура – высший класс. Красивый, по слову песни, сам собою, въезжаю в коллегиум, а там – полное неузнавание. ПП давно уже нет – ушел на повышение, и дальнейшая его судьба неизвестна. Как неизвестна, удивляюсь, если вы говорите, что это лицо ушло на повышение? Ведь тот, кто на повышении, виден отовсюду, верно? Это было умеренное повышение, отвечают, не многим, откровенно говоря, заметное. Хорошо, продолжаю, помолодев, а как чувствуют себя Беата и Франц-Петер? Что ли, тоже пошли на повышение? Очень, отвечают, богословски точное определение, ибо сии преставились. Беата возглавляла какую-то благотворительную организацию в центральной Африке, чем-то заразилась и умерла. Пауза, вздох. Не ходите, дети, в Африку гулять… Одна радость, что умерла здесь, ее еще успели доставить на родину, хотя к тому моменту она уже никого не узнавала. А Франц-Петер? Этот умер без всякой причины. Взял себе и умер. Качаю головой. Просто, полагаю, он окончательно привык к смерти. Как вы сказали, спрашивают. Франц-Петер полагал (я прочищаю горло), что жизнь – это долгое привыкание к смерти. Меня буравят удивленным взглядом. Да? Так он говорил? Так, слово в слово.
Жизнь в коллегиуме постепенно потеряла свою новизну и стала привычной. Настолько привычной, что перестала ощущаться как жизнь. Стала похожей на воспоминания, в которых есть и хорошее, и плохое, но всё – прожитое. И этим не удивишь. Из всех окружавших Глеба и Катю способность удивлять сохранял лишь Франц-Петер. Он регулярно появлялся на вечерних лекциях и смотрел на докладчиков немигающим взглядом того, чьи убеждения тверды, пусть и не бесспорны. Франц-Петер внимательно слушал выступления на сложнейшие богословские темы, но вопросы его были просты и предельно конкретны. Одну из докладчиц он спросил, за что распяли Христа, а главное – почему Он воскрес? Та ответила, что это, несомненно, ключевые вопросы, но тем и ограничилась. Другому докладчику вольнослушатель сообщил, что его мать умерла два года назад, и спросил, где она сейчас. Ответ оказался настолько расплывчатым, что его не понял не только Франц-Петер, но и бóльшая часть аудитории. Впрочем, отдельные разочарования не могли повлиять на его преданность науке, и богословские заседания он продолжал посещать. Слушал самозабвенно, отчего под носом у него всегда блестело. На процессе познания это никак не сказывалось, но другому важному увлечению Франца-Петера – его слабости к поцелуям – очень даже мешало. Девушки коллегиума с ним целоваться не хотели. Когда же объятия Франца-Петера застигали их врасплох, они возмущенно кричали: Оh, diese feuchten Küsse![105] Замужних женщин он не целовал, что позволяло ему навещать Яновских и с чистой совестью есть у них пирожные. Надо сказать, что Франц-Петер был едва ли не единственным, с кем Глеб и Катя делили трапезу, потому что от общих завтраков и обедов они уже давно отказались. Если в отношении обедов случались еще исключения, то завтракали только дома. Утром невероятно трудно с кем-то разговаривать. Невозможно произнести элементарное Guten Morgen. Глеба и Катю начала охватывать усталость. Условия, в которых они жили, были хорошими – лучшими, пожалуй, за всю их совместную жизнь. Они и сами толком не сказали бы, что именно их угнетало, но тяжесть определенно чувствовали. Становилось всё яснее, что усталость приходит не только от переизбытка усилий. Она возникает и от неподвижности. Преодоление неподвижности Яновскими началось в той же точке, в которой она изначально возникла. Этой точкой (если уместно так говорить о высокой и полной даме) стала галеристка Анна Кессель. Все минувшие годы она нередко приглашала Глеба и Катю на вечера в своей галерее. На вечерах Глеб, по просьбе Анны, играл на гитаре и даже получал за это небольшой гонорар. Глеб любил эти выступления. Они его ни к чему не обязывали, он по своему обыкновению спокойно играл и гудел, не особо заботясь о производимом впечатлении. Первое время Анна просила его не очень-то гудеть (это казалось ей делом необычным), но гостям гудение нравилось, и она оставила Глеба в покое. Пусть, решила, гудит. На одном из таких журфиксов присутствовал продюсер Штефан Майер, который, в отличие от других гостей, занятых разговорами, весь вечер внимательно слушал игру Глеба. Когда все уже расходились, он попросил Анну познакомить его с Глебом. По-моему, он неплохо играет, сказала Анна, и Майер кивнул. Правда, гудит немного, добавила галеристка, чтобы не захваливать музыканта. Гудит он феноменально, пробормотал Майер. Никогда еще не слышал, чтобы голос так удивительно входил в резонанс с инструментом. Я всегда находила, что в его гудении что-то есть, сказала Анна, представляя Глеба Майеру. Продюсер дал Глебу визитную карточку и пригласил на следующий день в свой офис. С гитарой, спросил Глеб. Немец бросил короткий взгляд на Глебову гитару: нет, не нужно. Гитара Ленинградского завода музыкальных инструментов (Глеб подавил улыбку) ему, видите ли, не понравилась. Когда Глеб приехал в офис Майера, тот без лишних слов подошел к шкафу красного дерева и открыл его. Внутри зажглись лампы. В их лучах блестела закрепленная на специальных держателях гитара. Отщелкнув их, Майер извлек гитару из шкафа: Хосе Рамирес, гитарный Страдивари. Протянул Глебу: сыграйте. И Глеб заиграл. Одну за другой он исполнял вещи классического гитарного репертуара – Таррегу, Джулиани, Сора. А негитарную классику вы играете, спросил Майер. Глеб сыграл разученные еще в школе фрагмент из Волшебной флейты (в переложении для гитары Сора) и Фугу из Сонаты соль минор (переложение Тарреги). Он играл и наслаждался инструментом. Как он звучал! Благоухал. Раскрывался, как букет благородного вина… Вокал, негромко произнес Майер. Что, переспросил Глеб. Майер смотрел куда-то в окно. То, что вы называете гудением. Майеру был тут же предъявлен вокал. A bocca chiusa, скомандовал продюсер, что по-итальянски обозначает пение с закрытым ртом. Глеб запел, как просили. По лицу Майера было совершенно непонятно, нравилось ли ему пение с закрытым ртом. Видимо, не очень, потому что через некоторое время он сказал: а теперь разомкните губы. Глеб разомкнул, но, как выяснилось, слишком. Вы не у зубного (обнажились идеальные зубы Майера), не надо так широко. Когда Глеб был уже готов к тому, что разочарованный Майер с ним попрощается, тот заговорил. Произносимое продюсером так не соответствовало утомленному выражению его лица, что в первый момент Глеб подумал, что ослышался. Майер назвал Глеба выдающимся исполнителем и свою задачу видел в том, чтобы дать его таланту раскрыться. Сила Глеба не в сверхъестественных технике и слухе (ничего такого у него нет), а в умопомрачительной симфонии голоса и инструмента. Она – следствие особой энергии Глеба, которую при желании можно назвать даром. Где и как исполнитель наткнулся на богатейший энергетический пласт, Майер не знал, да его это и не интересовало. Главное, что ему были видны громадные запасы этого пласта и характер энергетических потоков. Глеб, как человек умный, держался настороже. Полуулыбка на его лице свидетельствовала о готовности признать всё сказанное стебом – при первых же признаках такого разоблачения со стороны Майера. Но признаков не поступало. Более того, Майер подробно описывал особенности потоков энергии, якобы изливающихся из Глеба. В них не чувствовалось тонкости, и они не были связаны с музыкальным интеллектуализмом (условные Дебюсси, Стравинский, Шнитке) – тем феерическим фонтаном, который своей виртуозностью энергию дробит. Нет, это были мощные волны, накрывавшие с головой. По словам Майера, волны подобного рода могли оседлать лишь такие испытанные серфингисты, как Бах, Моцарт, Бетховен и Чайковский. Если угодно – автор Адажио Альбинони. Эта компания направит энергию будущей звезды по верному руслу. Вы хотите, чтобы я играл популярную классику, удивился Глеб, но это же… банально. Майер строго посмотрел на него. Вот как? Так ведь все главные истины банальны, только от этого они не перестают быть истинами. Банальный материал, сыгранный небанально, – что может быть лучше? Этих ребят надо исполнять как в первый раз… Ну, дав, конечно же, понять, что знаете: до вас это уже играли. С их стороны – укорененность, с вашей – полет. Вот когда огромное укорененное дерево взлетает ввысь – это и есть искусство. Вы видели, как буря выворачивает деревья с корнем? Майер не ждал ответа: а я видел. Вы, наверное, полагаете, что они взмывают как ракета (ничего такого Глеб не полагал)? Нет, они медленно поднимаются в воздух, будто их вытаскивают краном. Вращаются вокруг своей оси. Раскинув руки, Майер тоже вращался. Напоминал медведя на ярмарке. И поднимаются всё выше, выше – это сказочное зрелище… Майер взлетел немного и теперь оставался на своей небольшой высоте. Вот этой мощи вы должны достичь! Я оплачу консультации у профессоров консерватории (гитара, вокал), но по большому счету они вас могут только испортить. Так что слушайте их вполуха и стремитесь только вверх. Они не поймут вашего гудения, но дадут полезные советы по технике исполнения. Всё (он опустился). Нет, не всё… Эту гитару я передаю вам во временное пользование. Не отказывайтесь (Глеб не отказывался), мы оба заинтересованы в результате. Просто берегите ее, вот и всё. Она, конечно, застрахована, но мне было бы жаль ее потерять. Я видел, на какой лопате вы играете, – так мы не покорим мир. Вот теперь – всё. Начинаю работать над вашим первым концертом.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Брисбен - Евгений Водолазкин», после закрытия браузера.