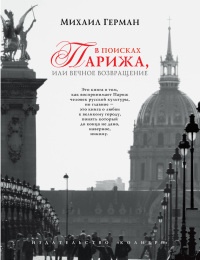Читать книгу "Брисбен - Евгений Водолазкин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
За неделю до концерта Вера, Катя и я прилетаем в Мюнхен. В аэропорту нас встречает Майер. До этого он уже прилетал в Петербург. Прослушивал нас с Верой, несколько раз менял концепцию концерта и его представления в прессе. Теперь, когда планы Майера окончательно сложились, он приступает к их воплощению.
Чтобы обратиться к новому, мы, с его точки зрения, должны громко проститься со старым. Первое, о чем он просит меня в аэропорту, это рассказать о моей болезни журналистам. Я изображаю сомнение, но скорее для порядка. Еще в самолете я сам сказал Кате, что пора колоться. Катя знает: колоться значит признаваться. Она согласна: пора, иначе это приобретет характер охраняемой тайны. Что глупо.
Рассказать о своей болезни продюсер просит также Веру. Здесь я готов с ним поспорить, но, к моему удивлению, просьба воспринимается Верой как само собой разумеющееся. Майер говорит ей, что выступление больной девочки на сцене способно поддержать тысячи больных, заставить их бороться за выздоровление – потому-де и нужно публично рассказать о своем недуге. Вера соглашается сделать это при случае. Случай, как выясняется, запланирован Майером на сегодня, и уже через четыре часа состоится встреча с корреспондентами.
Мой взгляд на план продюсера менее романтичен. Я понимаю, что Майер не уверен ни в Вере, ни даже во мне. Медицинскую тему он выдвигает как оправдание при возможной неудаче. К больным ведь подходят с другими мерками. Тут смотрят не столько на качество, сколько на сам факт пения. Больные, а поют. Как бы мы ни выступили, требовать деньги обратно никто не будет, и Майеру это известно.
Главное его открытие – Вера и ее талант. У нее прекрасная техника игры и природный шарм. Особое впечатление Майера связано с Вериной песней, которую он сам отдавал в перевод. Вера будет петь ее по-английски. В меру детская и эмоциональная, эта песня – в точности то, что ему хотелось видеть.
После обеда мы с Майером едем в Олимпия-Халле. Здесь нам предстоит всю неделю репетировать с симфоническим оркестром и детским хором. Пока тут только журналисты. Они расселись в партере неровным полукругом. У первого ряда установлен стол с табличками. В центре – Вера, по бокам – я и Майер.
Волнуюсь. Ничего подобного со мной раньше не происходило. На самых ответственных концертах я легко справлялся с волнением, а сегодня как-то не получается. Мне предстоит сказать об окончании карьеры музыканта – после стольких лет успеха.
Майер произносит вступительное слово. При здешнем освещении он похож на Лютера. Толстый, задумчивый, излагает свои тезисы – их совсем немного. Закончив, предлагает журналистам задавать вопросы. Кто-то подходит к сцене с букетом, кричит, что это для меня. Приняв букет, я не возвращаюсь на свое место, а сажусь на край стола. Смотрю на Катю – та кивает: да, муж мой, именно так и стоит сидеть. Торжественность в подобных случаях губительна. Майер подносит мне микрофон, почему-то на цыпочках. В вытянутой руке.
Вопрос задает молодая журналистка – из полумрака, с нимбом контрового света над головой.
– Господин Майер уже намекнул на какие-то медицинские обстоятельства… – Трение блокнота о микрофон рождает громкий скрежет. – Можете ли вы подробнее сказать об этих загадочных обстоятельствах, поскольку…
Микрофон с грохотом падает и закатывается под кресло.
– Я понял ваш вопрос. Собственно, это то, ради чего я сегодня пришел. – Отжавшись на руках, полноценно сажусь на стол. – Я хочу объявить, что мою гитарную карьеру заканчиваю. – По залу проносится вздох. Несколько неразборчивых возгласов. – Причина – болезнь.
– Какая? – крик из-под кресла и (микрофон найден) шуршание. – Какая болезнь?
Невидимой журналистке машет Майер.
– Ау-у… Возвращайтесь, фройляйн!
В зале смех. Фройляйн, пыхтя, поднимается с колен.
– У меня болезнь Паркинсона, правая рука вышла из строя. – Поднимаю правую руку и трясу ею, как в цыганском танце. – На подходе – левая. Тремор… Почти тремоло. Такое себе нескончаемое тремоло.
Шум в зале – этого не ждали. Микрофон переносят на противоположный фланг.
– Я смотрю, вы не падаете духом.
– Не падаю.
Защищаясь от света софитов, пытаюсь разглядеть спросившего. Парень лет двадцати пяти. Джинсы, джемпер. Рукава закатаны до локтя.
– Респект. Но. Если не ошибаюсь, при Паркинсоне страдает и голос.
– Это не медицинская конференция. – Майер встает. – Вопрос будет?
Парень спокойно показывает, что, конечно же, будет.
– Стоит ли при таких делах начинать карьеру певца? Простите, но это естественный вопрос.
– Главное – гуманный, – комментирует Майер. – Иногда не замечаешь, как журналист превращается в мясника.
– Всё нормально, – отвечаю. – Буду петь, пока не исчезнет голос. Дочь буду воспитывать… – Показываю на Веру. – Знаками.
Никто не смеется. По сигналу Майера микрофон передают пожилой даме.
– Можно сказать, что дочь – новый смысл вашей жизни?
Протягиваю Вере руку ладонью вверх. Вера звонко по ней шлепает.
– Можно.
Приходит очередь Веры. Майер говорит о ее болезни. Просят рассказать, как она с ней борется. Вера разводит руками. К врачам ходит, это понятно. Еще они с Глебом репетируют. Репетиции – настоящее лекарство, без них она бы уже… Иногда ничего настроение, а иногда боится умереть. Тогда ведь ни музыки, ни репетиций – ничего. Вообще ничего. Она не знает, зачем всё это рассказывает, – совсем ведь не то хотела сказать. Да, вот Глеб и Катя ее недавно крестили.
Майер просит нас с Верой спеть. Вера садится за фортепьяно, и мы исполняем Уток. С последней нотой – взрыв аплодисментов. Нам аплодируют журналисты и рабочие сцены. Подняв руки с инструментами, приветствуют музыканты симфонического оркестра, начинающие уже съезжаться на репетицию. Выходя на сцену в организованном порядке, разноцветными лентами машут участники детского хора. Овациями охвачены пустые пока ряды кресел Олимпия-Халле, но об этом знает лишь Майер. Ликованием многотысячного зала наслаждается пока только он. Ему свойственно слышать то, что до времени не слышно другим.
Примерно через год после приезда в коллегиум Яновские познакомились с душевнобольными его обитателями. Эти люди жили в трех отдельных корпусах, но жизнь их при этом ничуть не выглядела отдельной. Они гуляли в общем дворе, заглядывали в корпуса богословов, а иногда принимали участие в общих трапезах. Длинное слово душевнобольные не вполне описывало их состояние. У многих была больна не только душа, но и тело. У некоторых тело почти отсутствовало: на инвалидных креслах лежали веточки и стручки с поднятыми к небу скрюченными пальцами. Поначалу Глеб их боялся. Этим и объяснялось то, что поначалу с обитателями трех отдельных корпусов у него не было никакого соприкосновения. В отличие, между прочим, от Кати. Глеб был близок к обмороку, когда она подходила к ним с платком и вытирала текущие слюни. Или поправляла вязаные шапки на их маленьких, как декоративные тыквы, головах. Когда ПП устраивал совместные с ними обеды, кусок вставал у Глеба в горле. Собственно, до горла он даже не доходил. Глядя на изувеченные болезнью лица и руки, Глеб не мог заставить себя сделать и глотка. Со временем это изменилось. Наблюдая за душевнобольными, он понял, что все они больны по-разному и у каждого свой особенный характер. Жили в коллегиуме и те, кто больным не выглядел. Психических отклонений их внешность (почти) не отражала. С одним из них, Францем-Петером, Яновские подружились. Впервые они увидели Франца-Петера во время ознакомительной экскурсии по коллегиуму, которую вел ПП. По дороге, шедшей вдоль футбольного поля, мчался кабриолет. Мчался он, по счастью, с умеренной скоростью, потому что в нем не было педали газа. Имелись две педали, связанные цепью с колесами, – их вращение и обеспечивало движение автомобиля. Проще говоря, машина двигалась благодаря работе ног шофера. Этим шофером был Франц-Петер. Не скорость, но выражение лица Франца-Петера позволяло говорить о том, что кабриолет мчался. Та ярость, с какой он крутил педали. Он просто пролетел мимо экскурсантов и остановился метрах в десяти. Усталой водительской походкой Франц-Петер подошел к застывшей группе и сказал: о дружбе надо заботиться. Полюбовавшись произведенным впечатлением, добавил: сейчас я еду к одной фройляйн, чтобы себя, так сказать, реабилитировать. Он похлопывал перчатками по руке и держал в зубах спичку. И это движение, и интонации, и даже спичку в зубах Глеб уже когда-то видел, только не мог вспомнить где. Такое же ощущение возникло у Кати. Позже они осознали, что жесты и слова Франца-Петера родом из телевизора. Франц-Петер был не просто зрителем, но самой точной и безжалостной копией ведущих телешоу и актеров мыльных опер. Чем убедительнее эти люди представали в его исполнении, тем пошлее и примитивнее выглядели на телеэкране. Особенно удачно Франц-Петер передавал речь официальных лиц, мелькавших в телевизоре не реже шоуменов. Многочисленные не представляется возможным, в сложившихся обстоятельствах, следует подчеркнуть вылетали из него с постоянством музыкального автомата – не балующего, может быть, чистотой звука, но всегда включенного. Время от времени он заходил к Яновским, и они угощали его чаем с пирожными. Франц-Петер рассказывал им о непростой судьбе человека, который востребован всеми. С ним постоянно советуется администрация автобусного завода, где он работает. Как, ты работаешь, от неожиданности вырвалось у Кати. День и ночь, подтвердил Франц-Петер со стальным выражением лица. Самое удивительное, что он действительно там работал. Дважды в неделю в порядке трудотерапии его возили на автобусный завод, и он сметал там металлические стружки. Как-то раз, придя к Яновским, Франц-Петер застал Глеба одного. В отсутствие Кати хозяин смог предложить гостю лишь булку с молоком. Это я категорически отвергаю, с достоинством произнес Франц-Петер. Двинувшись к выходу, сказал, что пирожные надеется получить у маленькой Даниэлы. Глеб пожелал ему успехов у маленькой Даниэлы, заметив при этом, что не знает, о ком, собственно, идет речь. Франц-Петер со вздохом признался, что тоже не знает – в отношениях с друзьями он был предельно честен. Уходя, сказал: жизнь – это долгое привыкание к смерти. Будто между прочим сказал. Без особой связи с предыдущей беседой. Проводив гостя, Глеб надел легкую куртку, подошел зачем-то к календарю (15 апреля) и засунул в карман джинсов кошелек. Спустился вниз, пересек двор. Вы, русские, еще римляне или уже итальянцы, спросил его садовник Пильц. Глеб махнул Пильцу, даже не пытаясь ответить. Нет, Франц-Петер был явно покруче: долгое привыкание к смерти… Глеб зашел под навес, где стояли велосипеды. Сделав ласточку, удобно устроился в седле, выехал на улицу. Куда ехал – не знал: что-то гнало его вон из дома. Знал только, что всё сейчас увиденное – запомнит. Даже самое непримечательное: такое с ним уже случалось, и всякий раз – весной. Память, как внезапно включившаяся видеокамера, сама собой наводилась на резкость и начинала снимать. Словно сериал ВВС, ловила каждую, в дождевых каплях, травинку на газоне, клейкий лист на дереве, дрожащую, допустим, паутину – всё, что они так любят снимать. А кроме того – кошку, вылизывавшуюся на теплом еще капоте машины. Под машиной лежал человек с радиоприемником (канал классической музыки) и набором инструментов. Симфония для скрипки и гаечных ключей: каждый звякал по-особому, в соответствии с номером. Кошка прервала умывание, интересуясь произведенным впечатлением. Потянулась. Полюбовалась торчавшими из-под машины ногами. Глебу: сказала ему, короче, утром посмотреть коробку передач, можешь, говорю, взять с собой радиоприемник и послушать классику, клас-си-ку, без всяких там баварских тирлим-бом-бом, заколебало уже народное творчество, в особенности, блин, волынка, хуже, чем гвоздем по стеклу, а он мне такой: не боись, киса, на полчаса, типа, работы, и вот, уже полдня здесь загораем, полдня, потому что если руки не оттуда растут, так что ж ты ими отремонтируешь? Подмигнув Глебу, замолчала. Он двинулся дальше, камера работала, и был виден ее красный огонек. 15 апреля, рассеянное солнце. Ехал мимо теннисного корта – стена вьющегося винограда скрывала играющих. Слышны были удары ракетки по мячу. Жизнь как долгое… Скажите, пожалуйста, как философически – не сам же Франц-Петер это сочинил. Может быть, маленькая Даниэла? Глеб был уверен, что она не выдумана. В сумеречное сознание Франца-Петера девушка наверняка шагнула из какого-нибудь латиноамериканского сериала. Маленькая Даниэла… В этих сериалах так зовут всех девушек. Подобно двум своим именам, Франц-Петер соединил в голове вымысел и реальность. Получилась реальность. Идеальный зритель. Глеб ехал по Людвигштрассе. Катился на холостом ходу, рассекая лужи на велосипедной дорожке. Мелькнуло удивленное лицо Беаты. Припухшее какое-то и обиженное: после выяснения отношений она вела себя как брошенная жена. Зачем, спрашивается, здесь возникла Беата? Зачем со своим рюкзаком топала по Людвигштрассе? На что надеялась – остаться в памяти? Прежде всего запомнится весна во всех своих подробностях – с шуршанием шин, с дорожными рабочими в разноцветных касках, с лучами солнца в фонтане, но, может быть, даже и с Беатой. За зданием библиотеки он свернул в Английский сад. Всё вспомню когда-нибудь, пообещал себе Глеб, вдыхая запах первой зелени и прошлогодней прели, слушая искусственные водопады и естественных птиц. Думая о том, что, возможно, в это самое время маленькая Даниэла угощает Франца-Петера пирожными.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Брисбен - Евгений Водолазкин», после закрытия браузера.