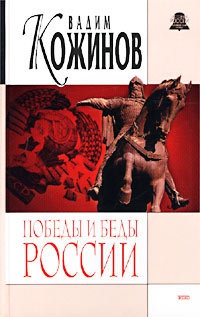Читать книгу "Михаил Бахтин - Алексей Коровашко"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Что же он предлагает в противовес методике воображаемого оппонента, которая «в сухом остатке» сводится к фиксации всех случаев отклонения от повседневного обыденного языка в поэтическом тексте?
А предлагает он заниматься «распределением событийных моментов бытия вокруг… ценностных центров». В пушкинском стихотворении таких центров два: «лирический герой (объективированный автор) и она (Ризнич)». Они образуют «два ценностных контекста, две конкретные точки для соотнесения к ним (здесь, вероятно, требуется конъектура, заменяющая «соотнесения к ним» на «отнесения к ним». — А. К.) конкретных ценностных моментов бытия, при этом второй контекст, не теряя своей самостоятельности, ценностно объемлется первым (ценностно утверждается им); и оба этих контекста в свою очередь объемлются единым ценностно-утверждающим эстетическим контекстом автора-художника, находящегося вне архитектоники видения мира произведения (не автор-герой, член этой архитектоники), и созерцателя».
Попадая в силовое поле этих ценностных центров, «один и тот же предмет (Италия), с точки зрения содержательно-смысловой», становится «различен как событийный момент различных ценностных контекстов: для нее — родина, для него — чужбина, факт ее отбытия для нее — возвращение, для него — покидание и т. д.».
Приходится признать, что методическое соревнование с Жирмунским Бахтин, похоже, проиграл. Если алгоритм анализа, предложенный Жирмунским, при всей его формалистичности, позволяет «разделаться» практически с любым стихотворением, то бахтинский интерпретационный ключ вряд ли может претендовать на статус универсальной поэтологической отмычки. Попробуйте, например, вооружившись наработками Бахтина, проанализировать хлебниковского «Кузнечика» («Крылышкуя золотописьмом / Тончайших жил, / Кузнечик в кузов пуза уложил / Прибрежных много трав и вер. / «Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер. / О, лебедиво! / О, озари!») или знаменитый гимн зауми авторства Крученых («Дыр бул щил / убещур / скум / вы со бу / р л эз»). Конечно, и в этих текстах можно обнаружить ценностные центры различных рангов, но что это даст для понимания того, как они «сделаны», не совсем ясно.
Как уже говорилось, архитектоника мира эстетического видения была для Бахтина моделью архитектоники действительного мира. Между моделью и тем объектом, который она замещает, всегда есть разница. В чем же она заключается в данном случае?
По Бахтину, эстетический субъект, приравниваемый им либо к автору, либо к созерцателю, находится в отношении «вненаходимости всем моментам архитектонического единства мира (?) эстетического видения». Иными словами, он может проявлять любовь к герою созданного им романа (школьникам и сейчас предлагают письменные работы на тему «Какие герои романа “Война и мир” являются любимыми героями Толстого, а какие не любимыми?»), но проникнуть внутрь романного «мира утвержденного бытия других людей» не в состоянии, поскольку его самого — «утверждающего» — в нем нет. Мир художественного произведения, постулирует Бахтин, — «это мир единственных исходящих из себя других людей и ценностно соотнесенного с ними бытия, но мною они находятся, я — единственный из себя исходящий нахожусь принципиально вне архитектоники. Я причастен лишь как созерцающий, но созерцание есть действенная активная внеположность созерцателя предмету созерцания. Созерцаемая эстетически единственность человека принципиально не есть моя единственность. Эстетическая деятельность есть специальная, объективирующая причастность, изнутри эстетической архитектоники нет выхода в мир поступающего, он лежит вне поля объективированного эстетического видения».
Таким образом, главный архитектонический принцип эстетического мира, согласно версии Бахтина, — это противопоставление других друг другу, вне которых находится заинтересованно-«любящий» наблюдатель. И наоборот, «высшим архитектоническим принципом действительного мира поступка» является «конкретное, архитектонически-значимое противопоставление я и другого».
Далеко не всё в этих положениях Бахтина выглядит удовлетворительным. Создается впечатление, что мир художественного произведения он приравнивает к домику для кукол, внутреннее убранство которого можно только разглядывать, фантазируя о том, что было бы, если бы удалось уменьшиться до его размеров и попасть внутрь. При этом почему-то не берется в расчет, что мир этот создан не кем иным, как автором, а значит, и расстановку кукол, и их наряды, и их воображаемые перемещения по игрушечным комнатам — все это не просто наблюдение, но еще и творение. Да, современный русский писатель, как, впрочем, и художник Серебряного века, не в состоянии вступить с героями им же написанной книги в те же отношения, что и, например, действующие лица романа Корнелии Функе «Чернильное сердце», которые осуществляли постоянную рокировку литературных персонажей и живых людей (когда кто-нибудь из героев произведений, читаемых вслух Мортимером и Мегги Фолхарт, оживал и материализовывался в повседневной реальности, их место занимал настоящий человек). Но архитектоника эстетического мира создается по его чертежам и проектам и в любой момент может подвергнуться капитальному ремонту и даже кардинальной перестройке. Не меньшими возможностями для вмешательства в романное положение дел обладает и простой читатель. На эту тему существует большая научная литература. Укажем лишь на широко известную статью Валентина Асмуса «Чтение как труд и творчество» (1962) и выразим солидарность с мнением Умберто Эко, который в монографии «Роль читателя» (1979) убедительно доказал, что «есть тексты, которые могут не только свободно, по-разному интерпретироваться, но даже и создаваться (со-творяться, по-рождаться) в сотрудничестве с их адресатом».
АКТ ВСКРЫТИЯ № 2
Создатели и пленники художественного мира
Следующее произведение витебского периода, если сравнить его с предыдущим, достигло куда большей величины словесного «оплотнения», несмотря на то что и оно не было дописано, а из того, что было все-таки реализовано, до нас не дошли первая глава и внушительный фрагмент второй. Под каким названием оно существовало в сознании Бахтина, мы точно не знаем (есть вполне обоснованное предположение, что аутентичным заглавием было «Герой и автор в художественном творчестве»), но вывеска, придуманная в 1970-е годы Сергеем Бочаровым («Автор и герой в эстетической деятельности»), вполне коррелирует с содержанием текста и прочно утвердилась в научном и читательском обиходе.
Датировка «Автора и героя…», как и датировка «К философии поступка», является не точной, а приблизительной. Согласно наиболее аргументированной версии, ее нижний предел следует отнести к началу 1923 года, а верхний — к весне 1924-го. При жизни Бахтина рукопись «Автора и героя…» влачила архивное существование и лишь после смерти ученого стала отдельными главами подаваться на суд читателя (в 1977 году фрагменты текста были опубликованы в журнале «Вопросы философии», в 1978-м — в журнале «Вопросы литературы»). В более или менее целостном виде она впервые увидела свет в сборнике работ Бахтина «Эстетика словесного творчества» (1979), но даже в этом издании наличествовали определенные лакуны, обусловленные как неполной расшифровкой рукописи, так и, видимо, желанием составителей потеснить «Автора и героя…» в пользу других запланированных к публикации материалов. На сегодняшний день с единственным ее полным воспроизведением можно ознакомиться только в первом томе бахтинского собрания сочинений, выпущенного в 2003 году.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Михаил Бахтин - Алексей Коровашко», после закрытия браузера.