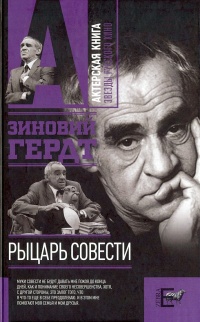Читать книгу "Мое обнаженное сердце - Шарль Бодлер"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Его смерть – почти самоубийство, долго готовившееся. По крайней мере, она наделала шуму. Разразился великий вопль – добродетель со сладострастием дала полную волю своему напыщенному ханжеству. Даже самые снисходительные надгробные речи не смогли удержаться от неизбежной буржуазной морали, которая, разумеется, не упустила такой восхитительный случай. Г-н Гризуолд вовсю чернил покойного; искренне же сокрушенный г-н Уиллис повел себя более чем пристойно. Увы! Тот, кто преодолел самые крутые высоты эстетики и погрузился в наименее исследованные пучины человеческого сознания, кто прошел через жизнь, похожую на бурю без затиший, нашел новые, доселе неведомые средства, чтобы удивлять воображение и пленять изголодавшиеся по Красоте умы, умер в больнице после нескольких часов агонии – какая участь! И столько величия, столько несчастья лишь для того, чтобы взметнуть вихрь буржуазного пустословия, чтобы стать поживой, благодатной темой для добродетельных газетчиков!
Utdeclamation fias!
Подобные зрелища не новы; редко бывает, чтобы свежая могила выдающегося человека не стала бы местом скандалов. Впрочем, общество не любит этих странных несчастливцев либо потому, что они смущают его празднества, либо потому, что оно наивно смотрит на них, как на угрызения собственной совести (и в этом оно несомненно право). Кто не помнит парижские разглагольствования, сопровождавшие смерть Бальзака, умершего вполне благопристойно? А вот еще совсем недавний случай – сегодня, 26 января, ровно год, как писатель восхитительной честности, высокого ума, и всегда трезвый, вышел, никого не беспокоя, украдкой – так, что сама эта украдка походила на презрение, – и освободил свою душу от жизни на самой черной улице, какую смог сыскать, – какие отвратительные проповеди начались! Более того, некий именитый журналист, которого даже Иисус никогда не сможет научить великодушию, нашел несчастье вполне забавным, чтобы отметить его грубым каламбуром14. Среди многочисленных прав человека, о которых мудрость XIX века столь часто и охотно вспоминает, были забыты два весьма важных: это право противоречить себе и право уйти. Но общество смотрит на того, кто уходит, как на заносчивого наглеца; оно охотно покарало бы иные бренные останки, как тот несчастный, пораженный вампиризмом солдат, которого вид трупа приводил в исступление. И все же можно сказать без всякой велеречивости и игры словами, что под давлением некоторых обстоятельств и после серьезного изучения некоторой несовместимости себя с миром, при твердой вере в некоторые догматы и в переселение душ самоубийство порой – самый здравый поступок в жизни. И так образуется уже многочисленная компания призраков, которые по-дружески навещают нас, и каждый из них, щедро осыпая нас заверениями, нахваливает свой нынешний покой.
Признаем все же, что мрачный конец автора «Эврики» породил несколько утешительных исключений, без чего пришлось бы отчаяться и признать себя побежденными. Г-н Уиллис, как я уже упоминал, высказался достойно и даже с волнением о хороших отношениях, которые у него всегда были с По. Гг. Джон Нил и Джордж Грэхем призвали г-на Гризуолда к стыдливости15. Г-н Лонгфелло16 – и это тем более порядочно, что По жестоко его критиковал, – сумел восхвалить в подобающей поэту манере высокую мощь усопшего и как стихотворца, и как прозаика. Некто неизвестный написал, что литературная Америка потеряла самую сильную свою голову.
Но самым разбитым, растерзанным, пронзенным семью клинками было сердце миссис Клемм. «Жестокая судьба, – сказал Уиллис, у которого я позаимствовал эти подробности почти слово в слово, – жестокая судьба выпала тому, кого она опекала и оберегала». Ведь Эдгар По был человеком неудобным; кроме того что он писал в стиле, слишком превышавшем заурядный интеллектуальный уровень, чтобы ему за это платить слишком много, у него были постоянные денежные затруднения, и часто им с больной женой не хватало самого необходимого для жизни. Однажды в кабинет Уиллиса вошла пожилая, кроткая, сосредоточенная женщина. Это была г-жа Клемм. Она искала работу для своего дорогого Эдгара. Биограф пишет, что был искренне удивлен не только безоговорочной похвалой и точной оценкой, которую она дала талантам своего сына, но и всем ее обликом, кротким и печальным голосом, несколько старомодными, но красивыми и благородными манерами. «И на протяжении многих лет, – добавляет он, – мы видели, как эта неутомимая, бедно одетая служительница гения ходила из газеты в газету, чтобы продать то стихотворение, то статью, говоря иногда, что он болен – единственное объяснение, единственное оправдание, неизменное извинение, которое она давала, когда ее сына внезапно поражало творческое бесплодие, так хорошо знакомое нервным литераторам, – и никогда она не позволяла сорваться со своих уст ни единому звуку, который можно было бы истолковать как сомнение, как умаление ее веры в гений и волю ее любимца. Когда ее дочь умерла, она привязалась к нему, выжившему в губительной схватке с болезнью, с еще большим материнским пылом – жила подле него, заботилась, опекала, защищала от жизни и от себя самого». Конечно, заключает Уиллис с возвышенной и непредвзятой правотой, если самоотверженность женщины, родившаяся с первой любовью и поддерживаемая человеческой страстью, так превозносит и освящает свой предмет, то разве не говорит это в пользу человека, внушившего подобную преданность – чистую, бескорыстную и святую? Хулителям По и в самом деле надо было заметить: он обладал столь сильным очарованием, что оно могло быть лишь свидетельством его достоинств.
Можно догадаться, сколь ужасной была новость для несчастной женщины. Она написала Уиллису письмо, вот несколько строк из него:
«Я узнала сегодня утром о смерти моего любимого Эдди… Можете ли вы сообщить мне какие-нибудь подробности по поводу ее обстоятельств? О! Не оставляйте вашу бедную подругу в этой горькой скорби… Попросите г-на … заглянуть ко мне, я должна исполнить по отношению к нему одно поручение моего бедного Эдди… Мне нет надобности просить вас объявить о его смерти и хорошо отозваться о нем. Я знаю, что вы и так это сделаете. Но непременно упомяните о том, каким нежным сыном он был для меня, его бедной, безутешной матери…»
Мне кажется, что своим душевным величием эта женщина не уступает античным образцам. Сраженная непоправимым горем, она думает только о репутации того, кто был для нее всем, и ей недостаточно слов о его гениальности, надо, чтобы все знали: он был человеком чести и нежным сыном. Очевидно, что эта мать – светоч и очаг, зажженный лучом с высочайших небес, – была дана в назидание нашим народам, которые так мало пекутся о самоотверженности, героизме, обо всем, что превыше долга. Не будет ли справедливостью начертать на произведениях поэта и имя той, кто была нравственным солнцем его жизни? Это увековечит в славе имя женщины, чья нежность умела врачевать его раны и чей образ будет вечно осенять список мучеников литературы.
Жизнь Эдгара По, его нравы, манеры, наружность, все, что составляет единство личности, представляется нам чем-то сумрачным и одновременно блестящим. Эта личность была странной, пленительной и, подобно его произведениям, отмечена печатью невыразимой меланхолии. Впрочем, природа одарила его необычайно щедро. В молодости он проявлял редкую способность ко всем физическим упражнениям и, хотя был невысок ростом, с ногами и руками, как у женщины – да и во всем его существе сквозило это женское изящество, – был очень крепок и способен на чудесные проявления силы. В юности ему случилось на спор проплыть столько, что это казалось невозможным. Говорят, что те, кто уготован Природой к чему-то великому, получают от нее энергичный характер, подобно тому, как она наделяет мощной жизненной силой деревья, предназначенные символизировать скорбь и боль. Подобные люди, порой хилые с виду, пригодны и для кутежа, и для работы, способны на излишества и на удивительное воздержание.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Мое обнаженное сердце - Шарль Бодлер», после закрытия браузера.