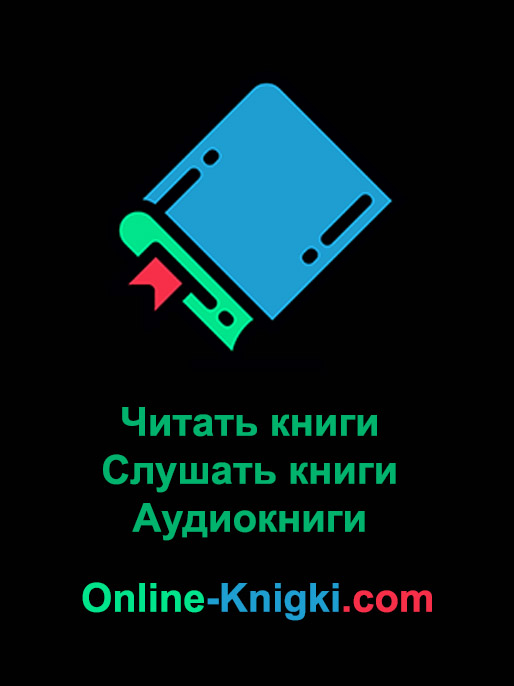Читать книгу "Милый друг Змей Горыныч. Сборник литературно-философских эссе - Евгений Валентинович Лукин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ирония как признак демонического начала, попирающего любые святыни, любые ценности, сразу проникает в духовную составляющую русской эпитафии. Протестантствующий Феофан Прокопович, соратник Петра Великого по свержению патриаршего престола и учреждению Синода, начертает первую «смехотворную» надгробную надпись иеродиакону Адаму. А спустя столетие архиепископ Георгий Конисский с насмешкой отзовется в автоэпитафии о своих регулярных поездках в Петербург за синодальными циркулярами:
За претерпенные труды и непогоду Архиепископом и членом стал Синоду. Георгий имя мне, я из Конисских дому И в жизни был коню подобен почтовому.Сравнить себя с загнанной лошадью мог, пожалуй, и трубадур арагонского короля Монах Монтаудонский, негодуя в энуэге на дорожный дождь и ослабшую упряжь. Как далеко это по чувству и мысли от предсмертного признания того же Нила Сорского, который всю жизнь собирал зерна божественной истины, как «пес от крупиц, падающих от трапезы словес Господних». В одном случае подразумевается протестное уподобление себя твари неразумной, в другом — согласное ощущение себя тварью Божией.
Подражательность не исчезнет ни в золотой, ни в серебряный век русской литературы: художники воспроизводят чужие эпитафические образцы, усматривая в оных не столько сакраментальный, сколько сатирический смысл. В Вестминстерском аббатстве Карамзин изучает величественные монументы монархам и героям, переводит памятные стихи и с иронической улыбкой добавляет: «Чтобы думать хорошо о людях, надобно читать не историю, а надгробные надписи: как хвалят покойников!» Жуковский, завороженный туманными видениями готических чудес, тем не менее копирует шуточную эпитафию просветителя Руссо. Апухтин переводит текст заупокойной католической мессы: впоследствии ее слова воспроизводятся на памятнике поэту. Чайковский справедливо замечает, что этот апухтинский реквием, «не будучи прямым отражением чувства, а скорее формулированием рассудочных процессов, — трудно поддается музыке». Даже Блок, столь восприимчивый к «торжествующим созвучиям», обратит взор на землю и сотрет средневековую пыль с тяжелой латинской эпитафии. Продолжат «переводную» традицию и современные поэты: на литературном небосклоне Арсений Тарковский отыщет последний мирской адамант звездочета Кеплера, а Андрей Вознесенский попытается вычислить «направление силового потока» кладбищенских стихотворений Микеланджело.
Возникшая как сколок иного мировосприятия, русская стихотворная эпитафия по-настоящему сумеет обратиться лишь в сатирическую эпиграмму, где ирония над собой или глумление над другим, пожелание ему смерти и забвения станет почти обязательным:
Сей человек был скот и прожил долгий век: Чтоб не дразнить скотов, здесь надпись: «Человек».Действительно, человек, лишенный духовной опоры бытия, не может не стать исчадием всемирной тьмы, всемирного зла. Как ни странно, между устроением Нового Иерусалима и строительством «светлого будущего» на земле существует глубокая внутренняя связь: они суть явления одного ряда. «Легенда о великом инквизиторе», где Достоевский изобличает римо-католицизм, ныне представляется классической критикой социализма. Примечательно: народный комиссар Луначарский, составляя эпитафию для мавзолея жертв революции на Марсовом поле в Петербурге, воссоздаст начало «Легенды»:
Со дна угнетенья нужды и невежества поднялся ты пролетарий себе добывая свободу и счастье все человечество ты осчастливишь и вырвешь из рабстваПеренесенная на другую религиозную и культурную почву, эпитафическая традиция не привьется в крестьянской России. Не случайно Александр Пушкин, чутко различающий подлинное, народное и поддельное, чужое, бежит городского кладбища с его нарядными гробницами и тривиальными надписями: ему милее родной деревенский погост, где есть простор неукрашенным могилам, мимо которого «проходит селянин с молитвой и со вздохом».
IIIИная судьба ожидает эпитафию в Новом Свете, где как бы изначально торжествует дух человеческой миро-деятель-ности, почти безграничного разномыслия и индивидуальной свободы. Неодолимое стремление к земному успеху, сочетающееся с разумным выбором пути к нему, порождает презрение к тем, кто думает иначе, кто имеет другой идеал:
А вы, спасители мира, не пожавшие в жизни плодов, Лишенные и по смерти надгробий и эпитафий, Каково вам теперь молчанье ваших глоток, Забитых прахом моей триумфальной карьеры? Перевод А. СергееваКазалось бы, эта высокомерная рацея Эдгара Ли Мастерса противостоит вдохновенным строкам Луначарского. Там взбунтовавшееся «я» жертвует собой во имя счастья всего человечества, и гранитная братская могила становится венцом его героической жизни. Здесь расчетливое «я» попирает других ради собственного благополучия, а отдельная роскошная погребальня является апофеозом удачной судьбы. Однако объединяет эти эпитафии одна, не приемлемая для православного сознания, особенность — земность устремлений духа, соблазн мирского счастья.
Западному мышлению присуща эта прелесть рационального проецирования небесного на земное и его рационального, а значит искаженного воплощения в мире: безгрешный папа римский есть воплощенная проекция Господа Нашего, белокаменный Новый Иерусалим — воплощенная проекция Иерусалима Небесного, недавнее «светлое будущее» — воплощенная проекция Царства Божьего на земле. Однако, если для Запада характерен готический индивидуализм, то для России — купольная соборность, поэтому воплощение какой-либо проекции там и здесь имеет разные последствия.
Американский поэт Эдгар Ли Мастерс не отступает от западной традиции и проецирует на себя образ Высшего Судии. В 1915 году он издает свод автоэпитафий жителей воображаемого иллинойского
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Милый друг Змей Горыныч. Сборник литературно-философских эссе - Евгений Валентинович Лукин», после закрытия браузера.