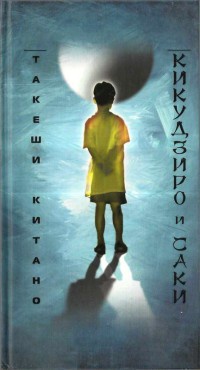Читать книгу "Назовите меня Христофором - Евгений Касимов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ошалевший, я шел по улице. Какая-то дворняга привязалась ко мне, но я так на нее посмотрел и, видно, такое было в моих глазах, что она, поджав хвост, с жутким воем кинулась в переулок.
Возле газетного киоска я остановился, чтобы купить сигарет. Выгребая из кармана последние медяки, я вдруг увидел за стеклом маленькую книжицу моего сокрушителя. Книжица игриво называлась «Пень-пенек». Я вспомнил предыдущие названия его книг и подумал: «Несчастный! Он, наверное, раньше работал лесорубом или лесником, а сейчас вынужден — у него просто не было иного выхода! Большая семья! — работать в отделе поэзии самого толстого журнала нашего региона. Он сам понимает, что не на своем месте, потому-то у него и глаза такие тоскливые. Злодей редактор! Зачем, зачем ты мучаешь бедного лесовода?!» Я отдал за книжицу последние сорок копеек, на которые рассчитывал купить сигарет, прочитал ее, не отходя от киоска, бросил в урну, плюнул и с легким сердцем пошел «на фанзу», где дрыхли други мои, ополоумевшие от голода.
Письмо
В Абхазию, п. Конналинн,
Петеру Бахману
Здравствуй, брат Петер! Тысячу лет тебе не писал, господитыбожемой! С тех пор, как мы не виделись с тобой, жизнь моя пришла в совершенный беспорядок. С женой я наконец развелся, хотя и против был и уговаривал начать сначала, но увы! Она настояла на своем, и тут я чувствую руку своей дорогой тещи. Бывшей тещи. Последние дни нашего супружества были невыносимы: вся дрянь так и выплеснулась наружу. Не скажу, что я был тих и благороден — нервы не выдерживали эти каждодневные дрязги. И чего я только не наслушался: и что тунеядец я, и графоман, и люблю-то жить на всем готовеньком, и сосу кровь из своих родителей, и безответственный и бесхарактерный, и так далее, и так далее, и так далее. Теща со мной не разговаривала, но Светка капала на мозги постоянно. Светка славная, но глупенькая, я устал бороться за нее. Да и влияние матери оказалось сильнее. Ты знаешь, мне кажется, что я ее еще люблю. Хотя заметная прохлада в отношениях наступила уже давно. Беда в том, что нам негде и не на что жить. Мы полностью зависели от ее родителей, а родители против меня. Ну не нравлюсь я им, не могут они меня переварить, хотя желудки у них луженые. Им нужен зять видный: чтоб юристом был (или врачом, на худой конец), чтобы квартира была, чтобы денег много получал, чтобы любезничал с ними по субботам за бутылочкой. Ничего у меня такого нет. Они меня за шпану держали. Во всей этой истории мне больше всего жалко Кешку. Сейчас-то они его все любят, а как зудели, чтоб Светка аборт сделала. И ведь она согласилась! Но Кешку я отстоял. А сейчас остался в стороне. Ну да бог с ними. Я сейчас спокоен — перегорел. А было плохо, брат, ой как плохо! Только тебе в этом и могу признаться.
Да, из университета меня турнули (Касимова, кстати, тоже. А он ходит — рот до ушей, говорит, это хорошо, а то латынь совсем забодала — он ее четырнадцать раз сдавал, — я, говорит, в Литературный институт поступать буду, там латыни нет и спрашивают не по учебнику). Ты Сумкина помнишь? Он сейчас деканом стал, он и устроил этот разгон. А был-то? Тьфу! Гриб-сморчок! Сейчас бегает такой энергичный — все порядок устраивает и глазами так страшно крутит.
Компания у нас сложилась крепкая, живем вместе, один хлеб едим. Недавно выступали в консерватории, было человек сто, не больше, но аплодисмент сорвали бурный. Ужинали аплодисментами. Печатать нас не печатают, вот так и ходим по «огонькам», по «вечерам» да по «утренникам». Выпендриваемся. Все смотрят с опаской: поэты. Пригласили выступать в ДРИ (на мероприятие!) Мы, конечно, согласные. Пришли, сидим. Никто не замечает. А народу! И все поэты! Заводские, клубные, институтские! Началось. Какое-то литобъединение — «Разбег» называется — на сцену выперлось. Все наглые. Начали читать. Инокентьев аж винтом завернулся, не можу, говорит, больше, айда в буфет пиво пить, пока есть. Но сидим. Барды городские вышли — тут такое началось! Андрюша Борисов поет что-то сильно жалостливое, зал свистит, потом огрызок яблока — бац в рожу! Ушел с достоинством. Мы уже совсем офонарели, потихоньку линяем, к нам какой-то толстый — распорядитель, что ли, у него значенье на лице написано, — а вы куда? А кто такие? Из какого такого лит-объединения? Кто руководитель? Голубцов ему: а мы и не поэты вовсе, мы вообще-то змееловы, а счас в отпуску. Пошли пиво пить.
Как ты там? Ах, хорошо бы сейчас к Понту Эвксинскому! Я все тот февраль вспоминаю, помнишь ли ты? Какая непогода была, шторм, дождь редкий, крупный, бамбук за окном шелестел, когда уходили по утрам на море, шли по крепкой чистой гальке, волны тяжелые хлопали в берег, пена клочьями, а горы в тумане — и не видно вовсе, только ощущаешь спиной. В такую погоду сидеть в теплом дому, слушать море, роман писать… Ах, черт возьми!
Обливаюсь слезами горючими, ничего не вернешь. А засим — прощай, брат Петер!
Твой Христофорус.
Святое семейство
Дом — большой и светлый — стоял посреди города. В доме было восемь подъездов и девять этажей. И жили в доме две тысячи человек. Все они были друг другу не чужие, потому что работали на одном заводе. Завод был не простой, а… Ну, в общем, понятно, что это был не простой завод, и делали на нем, конечно, не солонки и перечницы, не ножи и вилки и прочие полезные в быту предметы. Потому что Урал — опорный край державы, как сказал поэт. А люди на этом заводе были самыми простыми, без заскоков и завихрений, потому что такое производство.
И жил в этом доме некто Сандалов — большой чудак и воображала. А жил он в чужой квартире, и было ему от этого не по себе. А в чужой квартире он жил потому, что никогда у него не было ни кола ни двора. И когда он женился, то поселился с тещей и тестем — у них квартира была трехкомнатная. Им с женой выделили комнату.
Сандалова теща не уважала, потому что он не понимал, в чем смысл жизни, и был студентом, разгильдяем, шпаной, дармоедом, но много о себе воображал. Кроме того, Сандалов много читал по ночам, а электроэнергия все-таки денег стоила. Потом еще Сандалов писал стихи, что было и вовсе неприлично. Когда появился маленький Сандалов, это было непонятно. Потом к маленькому привыкли, но к Сандалову никак. И еще: он хоть редко ел, но много. Ему намекнули, что, может быть, у него солитер? Нет, без обиды. Хорошо бы провериться. Вот Николай Сергеевич тоже раньше много ел, а потом оказалось, что у него солитер. Он его вывел и стал есть гораздо меньше. И совсем было возмутительно, что Сандалов иногда исчезал на два-три дня, а появлялся с опухшей рожей. И был он неразговорчивым и гордым. Но можно быть гордым, когда есть деньги, а когда денег нет, можно и поклониться.
Дочь родная — просто дура, что пошла за такого задрыгу. Есть мужики и получше. С квартирами. И с деньгами. И с профессией.
Николай Сергеевич на Сандалова бочку не катил. Ему было все до фени. Иногда перекинутся парой слов, Николай Сергеевич щелкнет упруго хвостом по линолеуму и катится к себе в комнату приемник паять, кастрюлю лудить.
Так скоротали зиму. А весной Сандалова выгнали. И так, слава богу, сколько терпели его. У Сандалова от огорчения кровь носом пошла. Он даже застрелиться хотел, но где револьвер взять? Из авторучки не застрелишься. Перетерпел Сандалов. Нашел себе комнату, перевез книжки, стал жить дальше. Стихи у него пошли светлые, легкие. А тут и Голубцов с Инокентьевым объявились. Завертелось лето каруселью. Ко всему привыкает человек, и Сандалов привык к новой жизни.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Назовите меня Христофором - Евгений Касимов», после закрытия браузера.