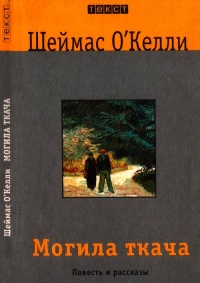Читать книгу "Американская мечта - Норман Мейлер"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однажды, много лет назад, в те годы, когда в твердыне нашего брака впервые воцарился привкус жестокости, более привлекательный, нежели наслаждение, я сказал Деборе в какой-то незадавшийся вечер: «Если бы мы любили друг друга, то спали бы крепко обнявшись и нам не хотелось бы вовеки размыкать наши объятья». – «Я, дорогой мой, гриппую», – ответила Дебора.
А сейчас я спал, крепко обняв Шерри. Проходили часы – четыре часа, пять, а я спал, погрузившись в нее, как ныряльщик, и отдыхая на каждой новой глубине, и мое тело бодрствовало, пока я спал. И когда я наконец открыл глаза (должно быть, механическое желание пробудилось минут за десять до настоящего), я понял, что все в этой комнате было именно таким, как надо. Снаружи – все было плохо. Знание втекало снаружи – примерно так чернокожий малыш однажды утром вдруг осознает, что он негр. Мне не хотелось жить. Я был убийцей. Вот именно, я был убийцей. И нечем мне было сейчас заняться и не для чего, кроме как изучать ее. На разных стадиях сна Шерри выглядела по-разному. Сон ее был чрезвычайно прозрачен. Маски алчности и жестокости проступали на ее лице, становились все более рельефными, а потом исчезали, раздавленные грузом собственной недвусмысленности, и из-под них выглядывало лицо нежного ребенка. Я словно прокручивал киноленту, сфокусировавшую на протяжении одной минуты те превращения, которые в жизни растягиваются на несколько недель: лопается зеленая оболочка бутона, и лепестки раскрываются, цветок расцветает, а потом так же быстро и внезапно вянет. И новый бутон, колючий и жесткий на ощупь, пробивается сквозь мертвые листья, примитивный эгоизм сквозит в недавней надменности, чувственные призывы рвутся из глубин сна, холодный расчет торговки собственным бархатом, из членов ее струится продажность, отвратительное паскудство, лицо ее застилает млеко былых мошенничеств, уже готовое свернуться и прокиснуть, и появляется кислая мина разочарования, стервозности, подловатой самовлюбленности, и вот уже маска снова черствеет, превращается в корку, эта корка трескается, и мне улыбается милая семнадцатилетняя блондинка с почти светящейся кожей, золотистая малышка, сочный персик штата Джорджия, одна из тех, кого посылают приветствовать важных гостей, сладкий плод, подлинное дитя своей страны. Я потрогал ее за кончик носа. Маленький, чуть вздернутый носик, с ноздрями чистыми и отверстыми внутрь, ноздрями, умеющими и готовыми вдыхать любой воздух.
Мне захотелось разбудить ее, чтобы немного поболтать. Я сконцентрировался на этом желании так сильно, что она заворочалась во сне, но потом – как будто усталость, от которой ей предстояло избавиться, возмутилась тем, что к ней относятся недостаточно почтительно, – ее лицо вдруг постарело, стало лицом женщины средних лет, упорство и упрямство проложили беспокойные линии вдоль носа, скривили рот, и она застонала, как инвалид, которому охота поплакаться: «Я заболею, если проснусь раньше времени, – отдельные жизни, которыми я живу, должны еще успеть сойтись воедино», – и я подумал: «Ладно, спи, покуда спится». Она расслабилась, и улыбка, легкий локон удовольствия, овеяла плотским запашком развившийся локон ее губ.
Над головой у меня висели часы. Было три минуты четвертого. В половине шестого я должен был явиться на допрос к Робертсу. Я встал, осторожно отделившись от нее, чтобы не потревожить ее сон, и оделся. В комнате было тепло и сухо. Газовый обогреватель все еще работал, воздух был спертым, но запаха газа почти не было, он улетучивался через вытяжку плиты, – и мне вдруг подумалось, что мое состояние подобно пирогу в теплой печи, да, именно это ощущала сейчас моя кожа. Я оделся, но бритву не стал искать. Побреюсь дома. Прежде чем уйти, я присел и написал ей записку:
«Как сладко ты спишь! И какое дивное это зрелище! Надеюсь увидеть тебя, прекрасная, как можно скорее».
Но будет ли она дома, когда я смогу наконец вернуться? И я снова чуть было не разбудил ее. «Постараюсь прийти сегодня вечером, – приписал я в скобках чуть ниже. – Если тебе нужно будет уйти, оставь записку, когда и где тебя можно найти». И тут во мне вспыхнула ярость. Смогу ли я еще когда-нибудь сюда вернуться? Мысль о Лежницком разверзла могилу у меня в душе.
Ну, ладно, я затворил за собой дверь, потихоньку, чтобы замок не щелкнул слишком громко, и стал спускаться вниз по лестнице, ощущая на себе любопытные взгляды. На улице свежий воздух ворвался в мои легкие, как невнятный сигнал тревоги. Я вернулся в мир, он был тут как тут, гудок автомобиля полоснул по ушам, как вопль отчаяния в канун несчастливого нового года, опасность повсюду подстерегала меня. Думаю, я все еще был пьян. Мысли мои были ясными, даже чересчур ясными, и где-то на уровне глаз в мозгу жила боль. Но сама боль была все же не столь мучительной, как мысль о том, что она может продлиться не одни сутки. Тело мое было пьяным. Но нервы его ожили, плоть чувствовала себя обновленной – идти было почти приятно, потому что я ощущал, как при каждом моем шаге напрягается каждая мышца. И воздух, проникая мне в ноздри, приносил с собой собственную предысторию – мятущиеся души с речного дна и известняк, растоптанный копытами лошадей и колесами фургонов минувшего столетия, собаки на углу, и «жареные собаки», и запах жира, на котором их жарили, запах самой нищеты, выхлоп газа из автобуса (египетская мумия, живущая в недрах своего гниения), миг растерянности и удушья, какой бывает, когда одного из сцепившихся в драке подростков вдруг хватает за шиворот полицейский (Дебора, должно быть, умерла с таким вот газом в легких) – и тут я явственно услышал вдалеке за городом яростный гудок локомотива, увозившего меня на поезде поздно ночью на Среднем Западе, и его железный грохот взрывал темноту. Сто лет назад первые поезда пересекали прерию, и от их гудков стыла кровь в жилах. «Поберегись, – кричали они. – Стой и не двигайся. К этому паровозу прицеплено столетье маньяков, в нем таится жар, способный спалить землю». Как, должно быть, было страшно первым непуганым животным.
Я взял такси. Водитель курил сигару и всю дорогу толковал о Гарлеме, о том, как он категорически отказывается ездить туда. В конце концов мне удалось отключиться от звука его голоса, я сидел на заднем сиденье, одолеваемый неудержимым желанием выпить. Не помню, доводилось ли мне прежде хотеть этого столь же сильно, все во мне взывало к спиртному, – так разбитая ваза вопиет о том, чтобы ее поскорее склеили: в ту секунду, когда я подумал о Лежницком, я почувствовал, что треснул пополам, – я сидел, выпрямившись, на заднем сиденье, и липкий пот заливал меня, и я с огромным трудом удерживался от просьбы остановить машину всякий раз, когда мы проезжали мимо бара. Помню, что я стиснул челюсти, плотно сжав зубы, мне хотелось выпить, я мог бы выпить, но я знал, что если я – любитель выпить, которому виски способно заменить в жилах кровь, – сейчас приму хоть стаканчик, то все пропало, ловушка захлопнется, виски подействует на меня как опиум. Мне нужно прожить этот день, продержаться, продержаться и не пить, не пить, пока я не вернусь к Шерри – это было первым пунктом нового контракта, который я мысленно заключил сегодня утром. Я вдруг вспомнил о Руте, желание выпить было связано с воспоминаниями о ней. Больной, вспотевший, дрожащий от ужаса, я все же явственно представил себе Руту, прижатую к цветам из красного бархата, красного перца моих желаний, сатанинские бездны разверзлись предо мной при мысли о том, что я могу нырнуть в бар и позвонить ей.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Американская мечта - Норман Мейлер», после закрытия браузера.