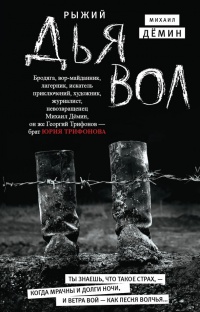Читать книгу "В Советском Союзе не было аддерола - Ольга Брейнингер"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я все больше и больше начинаю сомневаться, хотя сомневаться – это, пожалуй, неправильное слово. Я начинаю испытывать страх. Я вспоминаю все, что Карлоу когда-либо говорил мне о нашем эксперименте, я вспоминаю его слова о себе – «подходящий материал в условиях глобализации» – я начинаю складывать все разрозненные элементы в целое. Чего хочет этот человек?
Девочка приходит точно в назначенное время, ее зовут Дина, и пока она укладывает мне прядь за прядью крупными небрежными локонами (плойка шипит, нещадно сжигая волосы), я, закинув еще пару таблеток, крашу черными тенями глаза, придавая своему образу столько драматизма, сколько возможно, – хотя Карлоу, я уверена, и этого будет мало.
«Конечно, они создают атомные бомбы, но мы создадим тех, кто будет решать, как их использовать…»
К семи пятнадцати я полностью готова и, бросая взгляд в зеркало, не могу не согласиться с тем, что сконструированный и тщательно просчитанный образ (хотя сегодня все еще думают, что я научный ассистент, который проживает жизнь, составляя статистические модели, – черт, я опять начинаю говорить этим языком) завтра будет неоднократно вспоминаться и, наложенный на увиденное при эксперименте, будет делать меня холодной, инопланетной и очень грустной, как будто у меня на плечах вес целого поколения, – и наверное, отчасти это будет правдой. На мне кожаные брюки от Александра Маккуина, графитовый топ, вырез и рукава которого небрежно обрезаны вручную, и серая джинсовая куртка. Дина раскладывает локоны по плечам, словно составляя натюрморт, окутывает меня облаком сухого лака («никакого ощущения склеенности», говорит она) и исчезает. Счастливая – ее рабочий день уже закончился и, может быть, ее кто-то ждет дома, готовит ужин, а когда она зайдет, нальет бокал красного вина и обнимет.
Тоска по ощущению семьи для меня – уже привычная нота, но на самом деле сегодня, впервые за долгое время, я больше думаю об этом на автомате, чем правда скучаю. Я так устала, что все, чего нет в инструкциях, уходит на задний план, как будто мне вкололи анестетик, только не в предплечье и не под лопатку, а прямо куда-то в сердце или в душу, определив ее точное местонахождение, геолокацию во мне. Больше всего мне бы сейчас хотелось повыбрасывать все эти геометричные жакеты из тонкой кожи, топы с баской, идеальные брюки и байкерские ботинки на каблуке. Может быть, мне нужно перестать принимать всю эту дрянь, думаю я, выбрасывая на ладонь еще две таблетки аддерола и запивая их водой из-под крана. А то я уже начинаю чудить от них. Интересно было бы для разнообразия как-нибудь заснуть без таблеток, самой, нормально.
«А когда я в последний раз вообще что-нибудь делала нормально?» – возражаю я сама себе.
Действительно – когда?
Но ведь что-то у меня было до того, как я стала работать на Карлоу? Что-то свое? Ведь до эксперимента у меня была какая-то своя жизнь, в промежутках между наплывами отчаяния и постоянными переменами?
И я вспоминаю, что ведь действительно – что-то у меня было. Я занималась антропологией – наукой, которая учит нас вживляться к человеку под кожу и становиться им. Я ездила по всему миру, наблюдая, задавая вопросы, расспрашивая о самом сокровенном и пытаясь составить из всех этих историй цельную картину. Я спрашивала людей о том, кто они и какой стране принадлежат, отчасти в надежде, что однажды услышу что-то, что относится и ко мне, что скажет и мне, где мой дом. Но не находила и только наматывала сотни километров на поездах и самолетах и продолжала надеяться.
Ведь именно благодаря этому в моем мире и появился Амади – он приехал в Оксфорд из Грозного для работы в огромном международном проекте по Северному Кавказу, слишком огромном, чтобы мы могли найти друг друга там, – но в первый же вечер, когда он приехал в Оксфорд и вышел посмотреть город, мы нашли друг друга так.
А ведь может быть так, что завтра, во время демонстрации, среди зрителей окажется и Амади? Ведь мог он приехать на «эксперимент века». А может быть так, что, когда закончится эксперимент Карлоу, я смогу продолжить то, что бросила, – потому что нет ничего интереснее и увлекательнее, чем работать в «поле», чем идти на ощупь и находить нужную информацию, чем видеть, как твоя работа наполняется живым дыханием и превращается в факты, кристаллизуется в идеи, проходит шлифовку и обработку, а потом возвращается назад, чтобы претерпеть проверку и мягкой пеленой опуститься и растаять среди тех людей, в чьих домах ты сидел часами, становясь частью этой семьи и пытаясь думать так, как они думают; быть ими, превратиться в их историю; вдыхать и выдыхать воздух, которым дышали их предки, и переживать их войны; и снова собирать все это вместе, накладывая слои времен друг на друга и переплетая их, чтобы четче видеть закономерности и пробелы; находить пересечения, взаимосвязи и складывать картину целиком, – и все это так чисто и ясно у тебя в голове, что этот переход материи в идею и обратно кажется таким идеальным и умиротворяющим, словно объясняет тебе, понятно и просто, откуда уходит и приходит всё в мире, – даже если это лишь иллюзия.
– Дом, – говорю я себе зеркальной, – это то, что может быть у других, но никогда у тебя.
Не потому что я – это всегда не я. Опасность нескончаемого путешествия в том, что, если не за что держаться, с каждым перемещением становишься другим человеком и, переходя из одной точки в другую, теряешь где-то посередине одно свое «я» и заменяешь его другим, найденным по дороге. Уже аэропорт накладывает свой отпечаток, и, проходя через коридор к стойке паспортного контроля, чувствуешь, как напрягаются для улыбки мышцы челюсти, а походка приобретает твердость и пружинистость.
В мире, который можно перевозить в багаже и в котором отсутствуют любые ориентиры и привязки, единственное, что остается, чтобы не потеряться окончательно, – это придумать себе правила и отграничить ими территорию твоего мира от окружающего хаоса. Ведь хоть что-нибудь – что-нибудь одно хотя бы! – должно оставаться неизменным, иначе теряется всякая вера и желание жить. Это как ограничить территорию, разделив черное и белое, – и никаких оттенков, никакого серого, иначе все распадется, вернувшись в хаос, который до сих пор преследует меня, стоит лишь открыть глаза, а самый страшный кошмар, от которого в ужасе просыпаюсь, – это ощущение, будто ветер подхватил меня и несет по кругу, а я не могу вырваться. Нет ничего страшнее, чем оказаться с хаосом наедине.
Лежа по ночам в постели, ожидая, пока включатся пятнадцать миллиграмм зопиклона, я представляю свою жизнь как череду гостиничных номеров. И хотя, возможно, в вас уже проснулась жалость, поверьте, это не так плохо для человека, который соглашается считать домом расстеленную постель. Так же, как кто-то вечер за вечером заходит в ванную комнату в своей квартире, одним и тем же доведенным до автоматизма жестом включая свет и видя себя в зеркале, на фоне всегда той же самой, вечно знакомой стены, – я привычно достаю свои вещи из чемодана, ставлю в пустой стакан для зубных щеток свою – и вешаю на дверь табличку «не беспокоить», когда другие сказали бы своим: «Я хочу немного поспать, сделайте музыку потише».
Постоянно переезжая с одной съемной квартиры на другую, из одного гостиничного номера в третий, останавливаясь то в крыле для участников конференции такой-то и такой-то, то в гостинице для гостей проекта еще одного, то в студенческом общежитии или общежитии для постдоков университета очередного, я считаю, что в доме порядок, если блокнот и ручка с логотипом отеля находятся строго рядом с телефоном на прикроватном столике, бутылочки с шампунем и гелем для душа в ванной выстроены по линеечке, а бланк для отправки заказа в прачечную лежит в шкафу.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «В Советском Союзе не было аддерола - Ольга Брейнингер», после закрытия браузера.