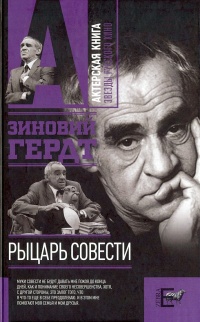Читать книгу "Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи - Елена Скульская"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вознесенский первым начал читать стихи, растягивая согласные, а не гласные. Шипящие и свистящие превращались в мощную, скрипящую и жужжащую мелодию («жжя» – как сказала бы Марина Цветаева), словно пережевывали щебень, известку, гравий, надеясь выжать из них влагу. Этот набат согласных отозвался потом в песнях Высоцкого, изменившего дикцию всей страны.
Самый популярный пародист 70-х Александр Иванов пытался ухватить суть этих новых аллитераций:
Фетиш в шубе: голкипер фаршированный фотографируется в Шуе, хрен хронометрирует на хребте Харона харакири. Хррр!!
«Ау, – кричу, – задрыга, хватит, финиш!»
Фигу!
(Это только первая часть задуманного мною триптиха.)[22]
Но шаржу не поддавалось главное – бесперебойное движение текста, поющего прежде бесправными в вокале буквами, у Вознесенского летела машина с вдавленной до отказа педалью тормоза, поставленная на «ручник». Летела вопреки физическим законам речи, переучивая гортань.
«Монолог Мэрлин Монро» стал нашим паролем: «…идет всемирная Хиросима, / невыносимо, / невыносимо все ждать, / чтоб грянуло, / а главное – / необъяснимо невыносимо, / ну, просто руки разят бензином! / невыносимо / горят на синем/ твои прощальные апельсины…»[23]
Бесконечное «с», словно мечущееся по лабиринту Дедала, требовало артикуляционных усилий, смелого раскрытия рта; «согласные» заговорили и не соглашались со своим «согласным» положением.
Руки, разящие бензином, были признаком жирной буржуазности: частные машины в 60-х всё еще были редкостью, отдавали фарцовкой, гэбэшностью, начальственным задом. Только в 80-х машины стали частью обычного быта, но на первых порах их как-то одомашнивали, делали членами семьи. Одна моя приятельница звала свой «Запорожец» Мурзиком, а вторая свой «Москвич» – Долли. И они так разговаривали: «Ой, Мурзик всё время капризничает!» – «А мою Долли так жалко, она молчит и терпит любые наши издевательства!»
В «Монологе Мэрлин Монро» поражало еще и то, что поэт, мужчина лирическое стихотворение писал от имени женщины: «Я – Мэрлин, Мэрлин./ Я героиня /самоубийства и героина»[24].
«Я же не мог написать о себе: «невыносимо, когда раздеты / во всех афишах, во всех газетах, / забыв, / что сердце есть посередке, / в тебя завертывают селедки…»[25]
Чтобы это сказать, мне нужно было влезть в чью-то кожу. А тут так трагически совпало: когда Мерилин Монро покончила с собой, то сообщение о ее смерти в одной из французских газет было на соседней с моими стихами странице, и мои стихи просвечивали сквозь ее лицо. Но никто не заблуждался: все понимали, что невыносимо жить нам с вами, а не кому-то другому, в какой-то другой стране».
Иосиф Бродский ответил на это самое популярное стихотворение Вознесенского своим «Представлением»:
Впрочем, они оба бравировали сочетанием сленга, даже плохо «заэвфемизированного» мата с высоким штилем.
Оба многому научились у Цветаевой. Бродский писал об этом, хотя формально никакого сходства не было, и если бы не его настойчивость, то такая мысль, вероятно, и не пришла бы никому в голову. Вознесенский не говорил об этом, но тайная зависимость была.
Мне думается, Вознесенский вспоминал эти стихи Цветаевой, когда сочинял свою «Параболическую балладу»:
Иногда мне кажется, что ему самому эта зависимость от Цветаевой была тягостна, он от нее открещивался странными демонстративными ошибками. Написал, например, «Вьюга безликая пела в Елабуге. / Что ей померещилось? – скрымтымным…» (1971). Марина Цветаева повесилась 31 августа, вьюга была совершенно неуместна, да и то, что померещилось ей, было известно не только Вознесенскому, но и в значительной части уже обнародовано. Потом, в переизданиях, он исправил: «Лучшая Марина зарыта в Елабуге. / Где ее могила? скрымтымным…»
Они – Вознесенский и Бродский – кстати, повидались.
«Я был однажды приглашен в его квартиру в Гринвич-Виллидже, – рассказал мне Вознесенский. – Мы до этого не встречались, но я много лет дружил с его друзьями – Людой Штерн, Геной Шмаковым… В хозяине не было ничего от его знаменитой заносчивости. Он был открыт, радушно гостеприимен, не без ироничной корректности. О чем мы могли заговорить? О котах! У Бродского был любимый кот Миссисипи. «Я считаю, что в кошачьем имени должен быть звук «с», – пояснил Иосиф. «А почему не СССР?» – поинтересовался я. «Буква «р-р-р» мешает», – засмеялся в ответ Бродский. Я сказал, что мою кошку зовут Кус-Кус. Бродский очень обрадовался этому имени: «О, это поразительно. Поистине в кошке есть что-то арабское. Ночь. Полумесяц. Египет. Мистика». А дальше уже пошел обычный литературный разговор – о Мандельштаме и о том, что Ахматова любила веселое словцо. Об иронии и идеале. О гибели империи. «Империю жалко», – умехнулся Бродский. Я запомнил и эти слова, и эту усмешку…»
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи - Елена Скульская», после закрытия браузера.