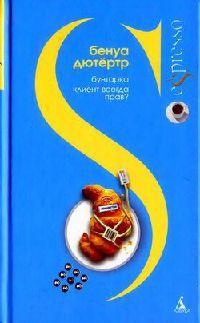Читать книгу "Родная речь - Йозеф Винклер"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Могу легко вообразить, как в твоем чреве я вращался вокруг своей оси, подобно космическому кораблю. Девять месяцев подряд из твоего стеклянного живота, как из окна без переплетного креста, я смотрел на окно с крестом, а из этого окна, когда к нему подходила ты, еще дальше — на окно соседнего дома с его беременной хозяйкой, которая смотрела на тебя. Ты закрыла окно и кивнула с доброй улыбкой, так ты привечала всегда всякого человека, всякую тварь. Ты поднялась в спальню, и я, чуть согнувшись, оглядел лестницу и носки твоих туфель, прошаркавших по ступеням шестнадцать раз. Оказавшись наверху, я посмотрел из твоего стеклянного живота на темно-коричневую дверь вашей спальни, где я взрастал из мерзкого отцовского семени. Ты повернула ручку двери, она открылась, и мы оба твоими ногами вошли в комнату, приблизились к тумбочке отца, ведь там был спрятан его черный, как вороново крыло, бумажник. Отцу нужны деньги, на них он купит мешок сахара и два мешка муки, я видел, как ты достала одну бумажку, закрыла тумбочку, повернулась, да так резко, что у меня голова закружилась, и мы вновь на лестнице из шестнадцати ступенек. Мы прошли мимо открытого люка погреба, отворили кухонную дверь и гордо, несмотря на мое головокружение, прошествовали к отцу, мы сунули ему в руку купюру. Он трясся над каждым шиллингом, особенно когда предстояли расходы. Мать вновь резко повернулась, вернее, мы повернулись спиной к отцу, ей надо было идти в хлев кормить свиней и кур. Ведь уже за пределами материнской утробы вели свою жизнь мои старшие братья и сестра, Зиге, Густль и Марта, а на втором этаже обитали в своих комнатенках дед и бабушка Энцы, и все они думали о полднике. Но еще до того, как мать повернулась к двери, она смущенно взглянула на отца, вертевшего в руке стошиллинговую бумажку. Она форменным образом призывала его к лобзанию, и тут, братья мои, я впервые в жизни обратил внимание, наблюдая из стеклянного чрева матери, как отец округляет губы, на седые усики у него под носом, точь-в-точь как у Гитлера. Я сжал свои крохотные кулачки и изготовился нанести удар по этим гитлеровским сопливчикам, но не решился, я малодушно опустил руку, я позволил своей молодой матери подставить лицо под чмок этих губ со щетинкой, и вот он уходит, он оседлает своего огромного коня с тракторным мотором, вытянет ногу, выжмет сцепление и запустит двигатель. Я посмотрел вверх, на выступ подбородка моей матери, я видел на ее лице едва уловимую улыбку, с отцом могло что-то случиться, он мог на своем тракторе сорваться с откоса, и у матери, должно быть, те же мысли, что и у меня, ведь я пока еще не я, а она, и мне не плачется, если не плачет она. И я машу отцу своей эмбриональной ручонкой, он не видит меня и не знает, что живот у матери стеклянный, но я все же машу, он отъезжает, а мы с матерью еще остаемся у окна, уставясь на спину моего созревающего отца, он становится все меньше, а я в материнской утробе начинаю расти по мере того, как он удаляется. Мы смотрим на облачко выхлопа, на тающий сизый шлейф и еще ждем чего-то, возможно, в окне соседнего дома вновь появится женщина, и я пригляжусь к ее распухшему животу, увижу, что он тоже стеклянный, а в нем шевелится такой же человеческий зародыш, как и я, мы посмотрим друг на друга, и нам захочется обняться. Меня обволакивают слизь и кровь матери, я не могу пробить эту оболочку, я не хочу убивать свою матушку. Если бы кто-то бросил камень в ее живот и живот женщины напротив, мы с моим внутриутробным сверстником, скорее всего, были бы обречены, как рыбы из разбитого аквариума, плюхнулись бы к ногам наших матерей. Может быть, нам удалось бы еще как-нибудь подползти друг к другу и поцеловаться, а потом мы потрепыхались бы и затихли навсегда, точно рыбы, брошенные в мох на берегу нашего деревенского ручья. По ночам, когда мать спала, я иногда вставал на ноги в ее животе, мне хотелось сбросить с нее одеяло. Меня все время тянуло рассмотреть фосфоресцирующее зеленое распятие, висевшее над зеркалом, я хотел видеть, какие гримасы корчит фосфоресцирующий Распятый, когда спят родители. Я порывался встать и подойти к окну, меня манило древнее дерево, я хотел видеть глаза сыча домового ночью, когда мать лежит на животе или на спине, расплющивая холщовый тюфяк, набитый сеном. Я в отчаянии возился у нее внутри, силился как-то вразумить ее: мне надо выйти в ночь, в освеженную прохладой деревню. Мать ворочалась на кровати, жаловалась на боли в животе, а я ворочался в утробе и никак не мог дать ей понять, что она должна переместить меня к окну, мне надо вонзить взгляд хотя бы в темноту. Я бился головой о брюшной потолок, тыкал в него кулачками и локтями. Мне удавалось по крайней мере разбудить мать, она говорила отцу, что чувствует боли в животе, что ей нехорошо. Отец запускал грубую руку под шелк ее ночной рубашки, и, хотя она была соткана из шершавой холстины, мне хотелось бы думать, что это чистый шелк, благоухающий духами, и я видел отцовскую клешню на куполе прозрачного живота матери. Я пересчитал корявые пальцы и не мог удержаться от усмешки, вы ведь помните: на одной руке у него — только четыре пальца. Он гладил четырехпалой лапой живот будущей роженицы. И даже я почувствовал толику этой ласки и постепенно успокоился, меня подмывало шепнуть в его ладонь, что я хочу хоть одним глазком увидеть глубокую темную ночь. Глубокие и темные — так мать говорила про ночи, и мне остается лишь верить ей на слово. Отец, я хочу видеть эту глубокую и темную ночь, хочу взглянуть на фосфоресцирующее распятие, которое матери когда-то всучил разносчик: «Купите его, милостивая госпожа, видите, какое оно красивое». Моя мать вовсе не милостивая госпожа, а простая крестьянка, я не желаю, чтобы она была милостивой госпожой, так как не хочу быть милостивым господином. Мать поддалась уговорам, но только потому, что никогда не осмелилась бы отклонить святой крест. У нее язык не повернулся бы сказать: «Нет, мне не нужно распятия». — «Да ведь я отдаю вам Спасителя всего за сто пятьдесят семь шиллингов, вы повесите его в красном углу, будете три раза в день подходить к нему, класть облатку ему в губы и молиться». Когда из стеклянного чрева я смотрю на божницу и вглядываюсь в лицо Спасителя, он смотрит на мое внутриутробное лицо и кивает мне, сыну человеческому. Я до сих пор вижу, как разносчик сбывает матери это распятие, которое и ныне висит над зеркалом в родительской спальне. Мать никогда не посмела бы сказать: «У нас, уважаемый, этого добра хватает, оставьте его себе, мы не хотим покупать отштампованного в миллиардном количестве Спасителя на кресте, на оригинал мы, может, и молились бы, а на его бесчисленные копии — увольте. Стоит протянуть руку, и наткнешься на распятие, это может каждый: Густль, Марта и Зиге, Йогль и я, дед и бабушка Энцы, Освальд и Пина, распятий у нас и в самом деле предостаточно. — Нет, мать не решилась сказать разносчику, что мы не нуждаемся в том самом фосфоресцирующем распятии, которое вот уже не один десяток лет мерцает по ночам в родительской спальне. — А почем оно?» — поинтересовалась матушка. «Сто пятьдесят семь шиллингов». Она отсчитала деньги, достав их из черного отцовского бумажника. «Спасибо вам и до свидания». Нет, он не сказал: «До свидания». Он сказал: «Да поможет вам Бог». Ведь он продал матери распятие. Он живет торговлей распятиями, а я чуть было не умер на них.
В лугах я сплетал большие и маленькие терновые венцы и пришпиливал их к головам мертвых карпов и щук. Однажды я положил такой венец на каравай хлеба. А мать, прежде чем убрать мою поделку, чтобы разделить хлеб, подняла его и стала рассматривать увенчанный терном каравай. Она ничего не сказала, только взглянула на меня и хмыкнула. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», — пробормотал я. Когда мы с Михелем колесили по полю и разбрасывали навоз, я случайно поранил ладонь брата, травма была тяжелая, мать вскинула руки и застонала, но я не услышал ни одного внятного слова. И пока не приехал на своей машине Адам Кристебауэр, чтобы отвезти Михеля в больницу, она, сидя возле него, перевязывала раненую руку платком и гладила голову своего ребенка, который вскоре затих, впав в полуобморочное состояние. Отец поглаживает живот матери, и я начинаю постепенно успокаиваться. У меня еще не выходят из головы уловки торговца распятиями, я морщу свой эмбриональный лобик, сжимаю в кулаки свои липкие ручонки, стискиваю губы, и из уголка рта сочится кровь крестоторговца, я сплевываю ее на голые ноги и мечтательно наблюдаю, как нить красной слюны тянется в глубину материнской утробы. Рука отца удаляется и уползает под одеяло. Я часто просыпаюсь, поскольку сон у матери нездоровый, она усыпляет себя таблетками, но я не хочу причинять ей боль и, проснувшись, веду себя как можно тише, ведь я люблю ее, но иногда делаю ей больно именно потому, что люблю. Я не раз видел капельки пота, сверкавшие у нее на животе и на бедрах, и следил за ее вспотевшими руками, когда она метала сено и когда вела под уздцы лошадь по выгону, отгоняя мух и слепней от себя и от лошадиной морды. Когда она навещала своего отца, я стучал ей в диафрагму, пытался дотянуться до сердца и сказать, что я хочу на волю, будь там снегопад или буря, будь там темно от туч, будь смута на всей земле, я во что бы то ни стало хотел увидеть павлина на дворе Айххольцеров, и как он склевывает кукурузные зерна. Я всегда любовался его золотой короной на дискообразной головке. Я упирался ручонками в брюшную стенку, давил на пупок, я причинял матери боль, когда она сидела перед дедом Айххольцером и рассказывала ему истории из своей теперешней жизни, говорила что-то про Марту, Зиге и Густля. Ну и, конечно, не забывала поведать о родителях мужа, прежде всего — о свекрови. Бабушка Энц то и дело порывалась поучать мою будущую мать, говорила, как надо готовить лапшу, как выглядит настоящий карп, когда домашних следует кормить кукурузной кашей, а когда нет, сколько литров молока отправлять на молочный комбинат Верхней Каринтии, а сколько отпускать безземельным крестьянам, которые по утрам или вечерам приходили к нам с бидонами. Иногда отец, гогоча, стрелял струйкой молока из коровьего вымени в лицо какой-нибудь бедной клиентке. Я замирал от удивления в своем материнском убежище, глядя на плясавшие в воздухе грязные хвосты коров и телят. Я смотрел на коровьи сосцы и дивился тому, как ловко отец или Пина выжимают из них тугие белые струи. Мне хотелось добраться до груди матери и напиться молока, ведь его дают даже бедной крестьянке. Почему же я не могу хлебнуть свежего материнского молока? Я хочу его уже сейчас. И я тянул свои крошечные ручки вверх, к соскам матери, я пытался пробить свою плодную оболочку и по материнскому позвоночнику вскарабкаться на высоту груди, но ничего не получалось. Я с завистью наблюдал и слушал, как звонко молочная струя бьет по дну и стенкам чужого бидона и как она становится бесшумной, когда бидон наполняется наполовину. Мать все выкладывала своему отцу, и дед Айххольцер обещал поговорить с моим, вернее, с тем, кто им скоро станет, как-никак старый Айххольцер наряду со священником пользовался большим уважением в деревне. На войне он дослужился до офицерского звания, был строг, но справедлив, так он сам о себе отзывался, и это при каждом удобном случае подтверждали мать и ее братья и сестры. Он был одним из самых порядочных и доброжелательных односельчан, недаром моя сестра, родившаяся на четыре года раньше меня, любила отца матери больше, чем своего собственного. Мать изливала деду Айххольцеру свои горести, а я продолжал давить ослизлыми кулачками на ее диафрагму, я хотел переместиться вместе с ней во двор через дверь черного хода, мне не терпелось увидеть, как в тени сливы павлин роняет свое окровавленное перо, мне бы поднять это перо, но я был пленником материнской утробы и мог только кричать, когда она прошла мимо, не подобрав пера, она не принесла его домой, в родительскую спальню, где я по ночам мечтал сбросить одеяло, чтобы видеть синие глаза на павлиньих перьях и мерцавшее зелеными искрами распятие. Я колотил кулачками и кричал: «Мама, подбери перо, возьми его с собой, ну пожалуйста, я буду коллекционировать павлиньи перья, как некоторые из односельчан собирают почтовые марки и переводные картинки». Мать не слышала меня, возможно, она чувствовала, что ее что-то беспокоит внутри, но винила в этом свое недужное тело, как бы то ни было, перо осталось позади. Я обернулся и под стеклянной спиной разглядел сначала вздымавшиеся и опадавшие бугры ягодиц, а потом — перо на земле. Обзору мешал позвоночник, поскольку сквозь костную ткань, будь то позвонки, тазовые кости или лопатки, я ничего видеть не мог, мой взгляд пронизывал лишь мягкую плоть и одежду. Когда она двинулась вверх по деревенской улице, мимо фыркавшей лошади, которая нетерпеливо копытила землю, я оглянулся вновь. Она поравнялась с зеленым островком многолетника, подняла руку, ласково тронула цветы, завернула за угол и начала подниматься к нашему дому, минуя большое, в человеческий рост, распятие, перед которым всякий прохожий снимает шляпу и чертит в воздухе зигзаги крестного знамения. Я тоже перекрестился, увидев, как мать воздела руку и осенила крестом лоб, затем — губы, а третий крест кончиком большого пальца изобразила перед грудью. Я поднял свою крохотную мокрую ладошку, пока еще без ноготков, и осенил крестом свой неокрепший лоб, посмотрел направо, в сторону большого распятия, и перекрестил кончиком большого пальца грудь и губы. Мать двинулась дальше, мимо школьного здания, и я, повернув голову направо, вижу красную надпись ШКОЛА и уже знаю, догадываюсь по рассказам матери о своих детских годах, что придет и мое время держать в руках карандаш, брать в уже не беспомощные руки влажную губку и стирать с доски меловые знаки. Над черной доской я увижу распятие, а сбоку — портрет президента республики. Тогда это была дешевая репродукция с изображением Адольфа Шерфа, ей полагалось висеть в каждом классе, наряду с распятием. Хочешь — выбирай, на кого смотреть: на распятие или на федерального президента, когда все складывают ладони и молятся за полезное и радостное учение. На уроках закона Божия мы уже видели перед собой не президента, а только распятие. Уповаю на то, что когда-нибудь меня побьют камнями, уповаю на муки, когда железными палками насадят мне на голову терновый венец; с надеждой жду предательства Иуды, моего младшего брата, который донесет матери, что я украл у нее деньги на лакомства; надеюсь, белобрысый Фридль Айххольцер оттяпает ему ухо; надеюсь, брат повесится, расплачиваясь за то, что предал Иисуса, которого пригвоздили к кресту римляне и кельты нашего отечества. На уроках истории учитель то и дело толковал нам про дожившие до сей поры дороги, проложенные кельтами на нашей земле. «Они укладывали камень за камнем, — говорил учитель, — таким тяжелым трудом никто уже не занимается, зато эти дороги служат нам уже многие столетия, а современные асфальтовые приходится подновлять каждые два-три года, их разбивают массивные трактора, и тогда снова надо привлекать технику и рабочие руки, черные от гудрона, и от этой ужасной, марающей человеческое достоинство смолы задыхается вся деревня». Дети окружают рабочих в заляпанных черными комьями комбинезонах, дети смотрят на горячую дымящуюся лаву, наблюдают, как она стекает по лопатам, как ее вываливают из обросших коркой ведер, они видят темные потные лица дорожников, и какой-нибудь замученный школой ребенок воображает себя в будущем таким же, как эти люди, ведь они пришли в деревню, чтобы покрыть асфальтом вертикальную балку распятия, главную улицу деревни. Я надеюсь, что меня свяжут пропахшими навозом веревками, что мою спину серыми молниями обожгут удары сыромятных бичей. Надеюсь, что этими бичами меня с крестом на горбу погонят от головы распятия вдоль по улице, по ее свежему асфальтовому полотну, вниз, к деревенскому кладбищу, и втолкнут в церковь, где мы со священником в Страстную пятницу обходим все образа с изображением остановок Спасителя на Крестном пути. Я держу в руках кропило и бронзовый сосуд со святой водой или размахиваю кадилом, время от времени наполняя воздух клубами ладана. Надеюсь, меня поведут на Голгофу, и весь деревенский люд, шагающий у меня за спиной, будет хором кричать: «Распни его! Распни его!» И вновь серая молния бича ударила мне в спину. Я заревел, как животное, которое ведут на бойню, но ведь я сам хочу, чтобы меня били. Мария Магдалина, моя сестра, идет за мной и помогает подняться, когда крест вместе со мной падает на землю, и тогда ее тоже наказывают бичом. Адам Кристебауэр, который был когда-то самым страшным Крампусом в нашей деревне и, как водится, с прутом в руке сопровождал в сочельник св. Николая, тот самый Адам, что двадцать лет спустя вытащит из удавок мертвых Якоба и Роберта, самый сильный человек в округе, заклятый враг моего отца, бугай, презирающий слабых, он следует за мной по пятам и стегает кожаным бичом мою кровоточащую спину. Я глотаю воздух и, обжигая ноздри, выдыхаю его, иногда озираюсь и смотрю в глаза заике Карлу Бергеру: «Стало быть, и ты среди моих истязателей, ты один из тех, кто всю жизнь будет замаливать свой грех». Только Вернигеман и Фридль Айххольцер не хотят моей смерти на кресте, но куда им тягаться со всей деревней. Крестное шествие проходит мимо пасеки Кройцбауэра, где я всегда с удивлением разглядывал крошечные гробики в сотах и часами ждал появления пчелиной матки. Про нее нам рассказывал учитель, а мы просто смотрели в окно класса и видели ульи, а в летнюю пору, когда окна были открыты, слышали гудение пчел. Многие залетали в классную комнату и садились на чашечки цветов, стоявших на учительском столе, и я все время задавался вопросом: нет ли среди них пчелиной матки, королевы роя? Я поднимался и шел к столу, учитель был прямо-таки ошарашен: «Как ты посмел встать без спросу? Кто тебя вызвал к доске?» Но я и не думал отступать, я шел вперед, чтобы рассмотреть каждую пчелу на цветах и выяснить: нет ли в их числе такой, что увенчана короной. Мы идем мимо открытых дверей школы, я вижу, как из них высыпают дети. Уразумев, что перед ними ведут человека, обреченного на распятие, они мгновенно застывают на месте и молитвенно складывают ладони, точно так же они выбегали из школы и замирали, сложив ладони, когда мимо проходила похоронная процессия. Я поднимаю голову, смотрю на школьников, и на меня вновь обрушивается бич Адама Кристебауэра, у которого на голове шлем. Я вижу ребенка в рваных, латаных-перелатаных штанах, он такой же бледный, как и я в детстве, он больше похож на мать, чем на отца, он так напоминает мою сестру, хоть у нее и длинные-предлинные косы, и, приглядевшись получше, я вижу, что этот ребенок в толпе школьников — не кто иной, как я сам, и я с улыбкой киваю ему. Другие дети — у каждого в руках школьный завтрак, который пахнет больше хлебом и смальцем, чем мясом, — устремляют взгляды на того, кем был я, и я продолжаю свой путь с крестом на плече и надеюсь, что Крампус еще не раз обожжет меня своей серой молнией, и в это же самое время я, стоя в толпе школьников и тоже с бутербродом в руке, слышу свой собственный крик: «Распни его! Распни его!» и мне кажется, что меня опять полоснули бичом, но это был не удар бича, это были слова: «Распни его! Распни его!» произнесенные моими же детскими устами. Дети побегут на школьный двор и станут водить хороводы, начнут гонять золотой мяч, который бросит им из пруда лягушачий король, они будут угощать бутербродами самых бедных из сельской детворы — Грету, Ханса и Зигфрида Энгельмайеров, которые и говорить-то толком не умеют, а потом каждый маленький доброхот побежит домой и скажет матери: «Дай мне еще ломтик, я уже все съел». И никто не признается, что отдал свой хлеб бедным детям. И они начнут штурм орехового дерева, вставая на плечи друг другу, а девочки будут восхищаться смелыми мальчишками, а те станут еще смелее и бесшабашнее, когда почувствуют на себе восхищенные девичьи взгляды. А потом они спрыгнут с дерева, и никто не сломает себе ногу, но по домам разойдутся с синяками и вывихами, которые мы обнаруживаем каждый вечер, ощупывая свои ноги, и все это произойдет до того, как процессия достигнет места крестной казни. Временами я поднимаю голову и возношу к небу глухой вопль, комок слипшихся слов, непонятных мне самому из-за страшной боли, ведь я в лихорадочном жару разговариваю с сущим во мне эмбрионом, который смотрит на мир из стеклянного живота матери, словно космонавт из капсулы своего корабля, и вы знаете, в своем эмбриональном животе я ношу мертвого, состарившегося Зеппля Энца, как моя мать — недозревшего ребенка, а его — Зеппль Энц на протяжении своего детства и… будет таскать с собой, когда вырастет и станет таковым. А процессия все тянется, мимо острых кольев школьной ограды, приближаясь к большому, в человеческий рост, распятию, у которого все еще стоит мать с крестящимся ребенком в стеклянной утробе. И его ослизлые ручонки мгновенно цепенеют, когда он видит распинаемого и понимает, что это — он сам, и тут он откидывается назад, в самую глубину стеклянного чрева: «Не хочу видеть свое распятое "я"! — раздается мой внутриутробный крик. — Не хочу видеть, что со мной будет!» И я начинаю снова стучать кулачками по материнской брюшине, пока из нее не брызнет кровь и мать не почувствует боль под сердцем. Мать думает, что это знак, повелевающий ей немедленно пасть на колени перед распятием, с которого она еще в детстве сметала паутину, а паука либо убивала, либо изгоняла из укрытия в каменном изваянии, она вынимала из ваз увядшие цветы и возлагала к пронзенным гвоздями ногам свежие букеты, глядя налакированные ногти Спасителя, и вот она встала и отступила на шаг, теперь она собирается прочитать молитву перед большим распятием, и так же, как она молилась за своих Зиге, Густля и Марту, когда те еще ворочались в ее чреве, она сейчас молится за меня и себя, шепчет «Отче наш» и «Пресвятая Владычица наша». Как бы хотелось мне закрыть глаза, чтобы не видеть, кем я стал и что со мною сталось, но у меня еще не выросли веки, и я вновь начинаю кричать: «Не хочу видеть этого страстотерпца с терновым венцом на голове! Убери его с глаз долой! На нем маска моего будущего лица! Ступай домой, мама!» Я не желаю, чтобы этот Иисус смотрел моими постаревшими глазами в мои зачаточные глаза, когда Адам Кристебауэр продолжает со свистом стегать его по спине бичом и криками «Вперед! Пошел!» подгонять к Голгофе. И, проходя мимо нас, Иисус смотрит на живот моей матери и в мое еще почти бесформенное лицо. Я киваю своей эмбриональной головкой, говорю: «Добрый день» и, чуть растянув в улыбке губы, сжимаю кулачки, я вижу ручейки крови на его, как всегда, бледном лице, я вижу черные битловские патлы Христа. Он идет мимо, теперь я могу видеть только его профиль, и, раскачивая прутья грудной клетки моей матери, я кричу: «Распни его! Распни его!» Мне бы эти длинные ногти, я бы разорвал плодную оболочку, выпал бы на теплый асфальт дороги, проложенной римлянами и кельтами, подошел бы к Адаму Кристебауэру и вырвал бы у него из рук бич, чтобы стегать себя по спине: «Вперед! Распни себя!» И каждый удар еще глубже всаживает терновые шипы в тело истязаемого. «Вперед!» — кричу я и шагаю дальше с римским шлемом на неотвердевшей голове, мать волочится за мной, как прицеп, привязанный ко мне пуповиной. «Вперед!» Я вновь стегаю Христа по спине, но тут подбегает Адам Кристебауэр, он отталкивает нас с матерью, вырывает у меня бич и заносит надо мной руку. Но тут к нему подходит заика — Карлуша Бергер, он вырывает бич из руки Адама, замахивается и кое-как выдавливает из себя крик: «Распни его! Распни его!» И я чувствую, как снова падаю, теперь уже перед Бергером, и учу его основам немецкого языка, но Адам Кристебауэр отнимает у Карлуши бич, ведь Адам всегда был и остается самым сильным человеком в деревне, более чем через двадцать лет он вытащил из петли сцепившихся в последнем объятии Роберта и Якоба и отбросил трехметровую веревку, связавшую их на веки вечные. Впервые за несколько лет он вскрикнул от боли, вызволяя из удавки обоих мертвых парней. Мать Якоба с воплем, застрявшим в горле, упала без чувств, когда узнала, что Якоб и Роберт повесились. Брат Якоба, его отец, сестра и дед воздели руки к лику Распятого и возопили: «За что ты так покарал нас? Почему?» Все животные повернули головы, уставясь в красный угол хлева, когда натянулась веревка. Облатки в дарохранительнице начали кровоточить. Одуванчики сомкнули свои лепестки. Другие веревки, лежавшие и висевшие в хлеву, обратились гадюками и, брызжа ядом, уползали с подворья. Самоубийцы под гробовыми досками хлопали в ладоши, но никто не мог этого слышать. Той самой ночью моя душа, точно гребной винт, закрутилась в теле. Распятый направился к Папе Иоанну Павлу I, чтобы пасть перед ним на колени и целовать ему ноги. Две молнии над деревней свились в веревку. Распятие из двух деревенских улиц подняло правую руку и осенило крестом свой лоб, где висели Якоб и Роберт, затем — свои уста и грудь, где стоит дом моих родителей, а потом перекрестило лоб моей спящей матери. Сердца всех покойников нашей деревни лежали на куче за кладбищенской стеной и стучали в унисон так, что казалось, будто деревню сотрясает биение какого-то громового сердца. Заспанные лица отрывались от белых и узорчатых подушек и вглядывались в темноту. Моя мать посмотрела в лицо мерцавшему зеленым фосфором Распятому, выпростала из-под одеяла руку и перекрестила себе лоб, уста и грудь. Павлин распустил хвост и горделиво блеснул оперением. Адам Кристебауэр в стальном шлеме на голове и с бичом в руке злорадно кричит: «Да здравствует Иисус!» а мою спину опаляет серая молния, я откидываю в сторону свою крохотную черепушку, цепляюсь за скобы материнских ребер и смотрю на свои ладошки. У меня пока еще нет ногтей, и я не могу разорвать плодную оболочку, но если через несколько месяцев по асфальтированной улице вновь двинется процессия с обреченным на распятие и если его опять будут стегать бичом, мой ноготь, точно бритва, рассечет облегающую меня пленку.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Родная речь - Йозеф Винклер», после закрытия браузера.