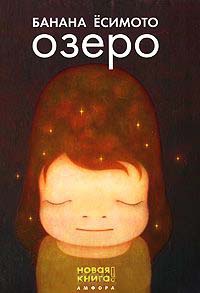Читать книгу "Деревенский бунт - Анатолий Байбородин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В торговых рядах гремела и билась в припадке шалая музыка, а уж на каком говоре пели, старик не разумел. Лишь горечью окатило фронтовую душу, когда в безумии звуков чётко прозвучало: «А на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе…» Раньше одичалая музыка напоминала старику лай и рычание озверевшей, кровожадной своры собак, что сопровождали пленных русских солдат и рвались с поводков, дабы растерзать полуживых людей. Но сейчас старик не слышал магнитофонного рыка и лая; глухим нимбом обволакивали его бездумные, пахнущие ладаном и могильным покоем, небесные звуки.
По городу брёл старик, седой, измождённый, и когда ветер распахивал пальто, изветшавшее, словно простреленное, грубо, внахлёст зачиненное, то взблёскивала фронтовая медаль на жёваном отвороте древнего пиджака, надетого поверх исподней рубахи.
Неожиданно старик свернул в сумрачную арку; утомлённо припал к грубо отёсанной каменной стене, и острые щербины впились в щёку, поросшую реденьким седым волосом. Старик оглядел арку, похожую на могильный склеп, и на глаза ему попался перевёрнутый вверх дном решётчатый ящик из-под вина – видимо, кто-то здесь уже переводил сморённый дух. Старик присел на ящик, откинулся к стене и прикрыл глаза тонкими, в синей паутине, дрожащими веками. Бог весть, долго ли тянулось обморочное забытьё, но неожиданно старик ощутил, что к рукам его, безжизненно опавшим на колени, к холодному лицу, прикоснулось ласковое, тёплое, влажное, до сладостной боли родное, приплывшее в город из далёкого ингодинского малолетства. И опять увиделось дальнее, словно солнечный луг явился в предснежном сумрачном небе…
Средь высоких лиственей, позолочённая утренней зарей, кондово рубленная церковь… от купола тёплый желтоватый свет… и стриженый большеголовый парнишонка бежит ромашковым лугом наперегонки с дворовым псом, мимо пасущихся коров и коней. Летит малый, не чуя ног, плещется в мираже, словно в струях речных, сверкающих на солнце серебристой чешуёй; а за рекой сенокосные луга, лебяжий березняк и зоревый сосняк, где, разложив на сером рядне некорыстные харчи, поджидает его мать, высматривает отец, прислонив литовку к сенокосному шалашу, укрывшись от солнца лопатистой, чёрствой ладонью…
Ещё боясь поверить, боясь спугнуть оживающее видение, старик не открывал глаза, вытягивал наслаждение, потом медленно отпахнул веки и по-детски солнечно улыбнулся – рядом посиживал такой же ветхий, как и он, осиротевший пёс, облизавший ему лицо и руки. Младенчески беззубая и бездумная улыбка тронула синеющие стариковские губы… закатный солнечный луч согрел восковое лицо старика… и, как бывало в детстве, старик неспешно и протяжно погладил пса, почесал за ушами, висящими, словно лопухи. «Ну, что, дружок, осиротел?.. Горе мыкаешь, горемычный. Голодный, поди…»
Вдруг вспомнилось далёкое, забайкальское: казак, знатный охотник в станице, обозлился на собаку – мало чуху и нюху, всю охоту пустолаяла – и решил утопить в реке… отчего пожалел десять граммов свинца, старик забыл… и выплыл казак на стрежень Ингоды-реки, привязал к собачьему ошейнику камень да и кинул в багровую закатную рябь; но камень слетел… видно, в спешке худо обмотал бечевой… и пёс тут же подплыл к лодке; тогда осерчалый психованный казак… истрепал нервы на Германской войне… навернул собаку веслом, замахнулся другой раз, но не удержался и бухнулся в воду; и утонул бы… худо мужик плавал… но спасла собака: подплыла, чтобы хозяин ухватился за собачьи уши, и так с горем пополам и подчалили к берегу. О сём судачили казаки; почём купили, потом и продали…
Старик обнял бродячего пса за шею и вспомнил о подорожниках, что сунула в карман сердобольная деревенская баба; вспомнив, тут же и достал творожную шаньгу и протянул псу. «Кормись, дружок…» Пёс, подивившись, что старик ведает его кличку, бережно взял гостинец в зубы и, положив на землю, уставился на старика вопрошающим слезливым взглядом. Старик опять обнял бродягу за шею и, как в станичном малолетстве, прижался лицом к лохматой морде и, блаженно укрыв глаза, снова впал в забытьё.
Разбудил его посвистывающий шёпот, откуда вырывался ломкий, куражливый басок. Старик очнулся, обрёл житейскую память и, кажется, догадался, что рядом целуются молодые. Они возились близко, за углом; слышно было: умолял и клялся парень, тяжко и порывисто дышала подруга…. Не ведая зачем, старик поднялся с ящика, пошёл к молодым на одеревенелых ногах и стал молча смотреть влажно синеющими из потаённой глуби, удивлёнными глазами.
Молодые полусидели-полулежали на широкой садовой скамейке, ради греха и втиснутой промеж каменной стены и густых зарослей одичалой сирени. Прямо на земле, устланной жухлыми листьями, усыпанной сигаретными окурками и клочьями бумаги, торчали пивные банки. Молодые оторопели, словно явилось бледное, бескровное видение из тоскливого, замогильного мира; потом девушка зябко передёрнула крутыми плечами и, оттолкнув парня, села прямо, натянула юбку на голые колени. Парень, синеглазый, бритоголовый, закурил сигарету и досадливо выжидающе уставился на старика. А тот, каясь и виноватясь, вдруг ясно и живо увидел сына, убиенного в Афганистане, давно оплаканного и отпетого… Старик подошёл к парню ближе и, вроде погладить по плечу, потянулся ладонью, высохшей, мелко и часто вздрагивающей. Девушка испуганно качнулась, парень же оглядел пришельца от войлочных ботинок до седой головы стылым и острым взглядом, затем процедил сквозь желтеющие фиксы:
– Топай, топай, батя!.. Здесь не подают.
То ли не расслышав, то ли не вняв просьбе, старик ещё стоял с протянутой рукой и негаснущей улыбкой, и вдруг парень покаянно опустил глаза, развёл руками:
– Прости, батя, ниче нету. Иди с Богом.
И старик, сопровождаемый бродячим псом, побрёл из глухого каменного дворика, заросшего голой, тоскливой сиренью. В стариковских глазах светились слёзы. Когда, обессилевши, осел на заледенелую землю и, обняв Дружка, забылся, то привиделась заснеженная, вьюжная степь, по которой, извиваясь мрачной и жалкой рекой, растянувшись на много вёрст, бредёт отступающая армия, и он, молоденький солдат, за несколько месяцев постаревший на десять лет, волочится, угибая лицо от пронизывающего ветра. Потом вдруг отеплило, и, словно с небес, увидел он себя, малого, в белой посконной рубахе чуть не до пят, бегущего среди светящихся росных трав и цветов, бегущего прямо к утаённой в тумане реке, из которой выплывает румяноликое солнце. Впереди несётся дворовый пёс… А у реки парнишку поджидают мать с отцом, чтобы, спихнув плосокодонную лодчонку, уплыть к сенокосным лугам…
К вечеру чёрное небо глухо прижало город к земле, и всю ночь до рассвета тихо и густо валил снег, и город, утопая в сугробах, вымер. Лишь слышался в торговых рядах сиплый собачий вой… Там, между двумя железными ларьками, пожилая дворничиха нашла старика, которого набожная баба всякое воскресенье видела на церковной паперти Крестовоздвиженской церкви, подавая милостыню Христа ради. Покойник, обряженный снежным саваном, глядел в небо; на восковых губах инеем застыла мольба мытаря: «Боже, милостив буди мне грешному…» Рядом со стариком сидел пёс, при виде живой души переставший выть.
Дворничиха, вдосталь хлебнувшая лиха на вдовьем веку, не испугалась покойника; лишь вздохнула и, сквозь заснеженный город слезливо глядя в свои печали, подумала вслух: «Слава те, Господи, прибрал Бог убогого… – Дворничиха отмашисто перекрестилась на восток, перекрестила и старика. – Господи, упокой душу раба Божия… – баба не ведала старикова имени, – прими его во Царствии Своём и прости ему прегрешения вольныя и и невольныя… Отмучился, бедоладжный. Опять же сказать, и нонешняя собачья жись – помирай ложись. Дак лучше от греха… – Баба не осмелилась продолжить, словно ангел упреждающе шепнул в душу, что не она, дворничиха, жизнью ведает, а сам Господь Бог, и грех ей вольничать, беса тешить, подманивая пустоглазую. – Опять же, крути ни крути, а надо померти… Боже Милостивый, прости мя, дуру грешную…
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Деревенский бунт - Анатолий Байбородин», после закрытия браузера.