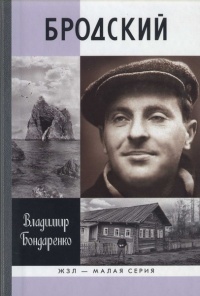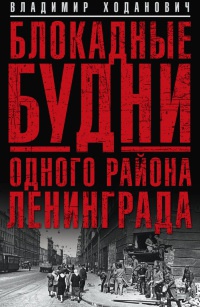Читать книгу "Бродский. Двойник с чужим лицом - Владимир Соловьев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Не знаю, не знаю – про них не знаю. Хотя очень сомневаюсь, что им будет лучше там, чем здесь, потому что едут-то в основном неудачники – здесь они все свои беды сваливали на государство, Россия у них была козлом отпущения, а там они с кого спрашивать будут? А нам – мы же остаемся! – нам будет еще хуже, чем им!
– Будет хуже – так уедем вслед за ними!
Нам и в самом деле стало хуже – потому что мы стали хуже. Подавали заявления самые отважные – а для этого и в самом деле нужна была отвага, – и их среди нас не становилось. Уезжали не неудачники – разные, в том числе неудачники, но вместе с ними и лучшие среди нас; зато те, кто оставался, становились хуже, вынужденные приспосабливаться к резко меняющимся условиям. А политическая, общественная и культурная ситуация в стране и в самом деле менялась стремительно и катастрофически – мы физически не успеваем зафиксировать одно изменение, как на смену ему уже грядет следующее. Повылазили наружу те, кто прежде прятался в щелях и головы по своему убожеству не поднимал, – свято место пусто не бывает. Я говорю не только об официальных синекурах, меньше всего о них, они редко доставались евреям, а уж коли доставались, то за столь дорогую цену, что ни о каких отъездах и помыслить было невозможно, – скорее о нашей общественной жизни, которая мельчала, оскудевала, пока и вовсе не сошла на нет. Отъезды порождали ощущение все увеличивающейся пустоты внутри нас – в государстве, в литературе, в каждом по отдельности, – и бороться с этой пустотой становилось все труднее. Циркулировал тогда анекдот об отъезжающем еврее, который, стоя уже на подножке вагона, просит передать последнему, кто будет уезжать, чтобы не забыл погасить свет.
Вся беда в том, что свет погас сам и задолго до того, как отсюда уехал последний еврей. Да и не в евреях дело. Не в одних евреях.
Мы сидим в кромешной тьме и не видим ни зги.
Лично для меня два пограничных столба отделяют одно время от другого: отъезд Бродского, 1972 год, и арест Володи Марамзина, 1974 год, – между ними нейтральная полоса. Мы с Сашей оказались по разные ее стороны.
Саша обрадовался отъезду Бродского – убери соблазн, и греха не будет или, точнее, коли уж пользоваться излюбленными мною поговорками, с глаз долой, из сердца вон! И в самом деле поначалу Саша упивался этим странным выигрышем у отсутствующего противника – как ему было догадаться, что этот отъезд для него как для поэта губителен? Почему так испугала Сашу эмиграция? Только ли потому, что к оставшимся евреям будут хуже относиться? Впервые за много лет евреи (а с ними и неевреи) получили право выбора – взамен права на приспособление. Момент выбора – самый гениальный – нет, не в жизни, в человеческой судьбе. Право выбора делает человека свободным.
В детстве я мучительно переживал детерминистскую свою зависимость от Бога, мелочную Его опеку над собой. Не знал, как проверить, свободен я или нет. Поверну направо – а вдруг это Бог предназначил мне повернуть направо? Знать бы, что мне предначертано, и сделать наоборот!
Нам была предначертана здешняя жизнь – злым и жестокосердым нашим Богом, испытующим наши сердца на прочность.
И выбора не было, даже надежды на выбор не было – функции Бога были присвоены тоталитарным государством, и единственное, что оставалось, – это приспосабливаться к подневольным условиям здешнего существования, успокаивая себя тем, что могло быть хуже, живи мы, скажем, в сталинские времена. Выбора не было, и вдруг выбор, как манна небесная, свалился на наши головы. А Саше от этого стало жить тяжелее – слишком далеко он зашел в сервилизме, не было пути назад: прочно и обстоятельно устраивался он в этой жизни, принимая ее за обязательную, единственную, неотменную и вечную – ныне и присно.
Мне было все-таки легче, я был на несколько лет моложе, неустроеннее, голоднее, легкомысленнее и, не собираясь никуда уезжать, обрадовался чужим отъездам как своей свободе.
Это легко понять и трудно объяснить.
Саша родился в тридцать шестом, Бродский – в сороковом, я – в сорок втором. Я сейчас даже не о том, что рожденные в «года глухие» русской истории в самих уже своих генах, в крови, в гемоглобине несут неосознанный страх и покорность. Я сейчас о другом: Саша на шесть лет дольше меня жил при Сталине, а это очень много.
Сейчас все боятся, а такие, как Саша, тайно мечтают, что эта дверь наружу может ненароком захлопнуться – и все снова окажутся в клетке. Опаска эта приводит к панике и суете, и многие уезжают преждевременно, до того как пришла их пора, без нужды, из перестраховки. Но эти опасения понятны, объяснимы – это и в самом деле странно, что тюрьму можно покинуть по собственному желанию, причем (вот парадокс!) самым бесправным ее обитателям. Словно Бог позаботился об этом равновесии. Хотя какое там равновесие! Согласились бы критики еврейской эмиграции – «вам есть где жить, нам есть где умирать!» – поменяться судьбой с евреями? Всей судьбой, а не только случайной этой привилегией?
Естественно, право эмиграции должно быть всеобщим, хотя сама по себе эмиграция противоречит драконовским законам нашего государства. Нельзя поддерживать давление в сообщающихся сосудах, если один из них дал течь.
Я, однако, спокоен: запереть эту дверь уже невозможно – по той причине, что ее больше не существует; не хозяева ее открыли, а гости выломали, сытые по горло опасным и затянувшимся гостеприимством своих хозяев, к счастью, временных.
Говоря так, я не противопоставляю евреев русским. Я говорю об отъезжающих и остающихся, независимо от происхождения тех и других.
Тот же Саша – плоть от плоти этой страны: он вырос здесь, ища компромисс между «можно» и «нельзя», и иной жизни не представляет и боится, ибо иная жизнь – не обязательно там, но и здесь – потребовала бы полной душевной перестройки, пришлось бы начинать все сначала. А Саша живет прежними завоеваниями, процентами с добытой славы. Свободной конкуренции он боится, потому что вся его жизнь – это избегание проблемы выбора даже в тех ограниченных пределах, в которые эта проблема втиснута у нас в стране. Саша – изоляционист, и будь его воля, он бы самолично запретил эмиграцию.
Здесь свой денежный курс, условный и не имеющий отношения ни к международной валютной системе, ни к ценностной шкале, ни к истинной иерархии. И Сашей в этой условной денежной системе, установленной свыше и произвольно, честным трудом накоплен некий капитал, и вот оказывается, что эти деньги – трын-трава, бумажки, как в волшебном магазине у Воланда, условные знаки, и цена им – ломаный грош. Как только кончается полная изоляция государства – а она кончилась с началом эмиграции (не еврейской, а литературной), – мгновенно обесценивается его автономный ценностный курс, ибо связь, даже минимальная, требует приведения отечественной системы в соответствие с мировой.
Я сейчас говорю не об экономике, но о литературе.
Когда из Советского Союза был изгнан Солженицын, а из Ленинграда Бродский, Саша, как и все мы, почувствовал сейсмический толчок, но, вместо того чтобы снести накопленный им капитал из обесцененных денег в макулатурный пункт и начать жизнь сначала, продолжал с еще большим рвением собирать разноцветные бумажки, которые когда-то считались деньгами. Он испугался и засуетился – таким трудом давшаяся ему слава текла сквозь пальцы, и не было сил удержать ее.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Бродский. Двойник с чужим лицом - Владимир Соловьев», после закрытия браузера.