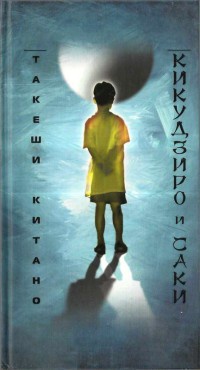Читать книгу "Назовите меня Христофором - Евгений Касимов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сандалов шел по мокрым улицам. И сердце у него болело, и тяжело было на душе. Только что он получил бандероль из издательства, в которой лежали отвергнутая рукопись и редакционное заключение, прочитав которое Сандалов почувствовал сначала полную растерянность, а потом — холодную ярость.
Жизнь! Жизнь проклятая. Все псу под хвост. Ведь как режет, а? «Поэзия — это прежде всего талант, помноженный на труд». А мы-то, дураки, и не догадались. У-y, чиновники, сучье семя! Только и могут, что говорить прописные истины. Отчего же вы так снисходительно небрежны? Откуда эти всепонимание, самоуверенность и категоричность? Может, у вас действительно дубовые головы, а может, вы просто поднаторевшие в своем деле иезуиты? И форма-то никуда не годится, и идей-то никаких нет, и вяло и анемично, и то и се… И ищут они то, чего быть не должно, а то, что есть, — не видят, даже водрузив на нос роскошные очки с итальянскими светочувствительными стеклами. А чего ищут-то? Суперэкстралюкс какой? А у меня все просто. Просто длинное дыхание портрета в легкой раме окна. Просто движение ветви за окном. Просто свет небесный и тьма египетская. Просто путь. И я по-другому не умею, не могу. И не хочу. Я так живу, и это моя жизнь. А что есть твоя жизнь? Что ты сам-то делаешь? Бесконечно строчишь свои рецензии, которые похожи друг на друга, как телеграфные столбы? Кто ты, рядовой труженик литературы? Только нет, ты не рядовой — рядовые раньше всех в бою падают, ты писарь, штабист с тридцатилетним стажем, изучивший в литературе только входы и выходы да изредка тискающий свои жалкие стишонки в издательстве, в котором ты прижился, которое для тебя есть большая теплая корова… Да как вы смеете называться поэтом и, серенький, чирикать как перепел?!
Сандалов задыхался. Иногда злоба искажала его лицо, и он судорожно рвал верхнюю пуговицу куртки. Но холод пронизывал его, и он опять застегивался, чтобы через минуту опять схватиться за ворот.
Был ли Сандалов прав, и действительно ли его поэтическая натура была непонятна многочисленным рецензентам, или же он относился к категории графоманов-любителей, которых во все времена водилось великое множество и которые, встречая отпор со стороны редакционных работников, переполнялись желчью и к концу своей неблестящей поэтической карьеры только и занимались тем, что писали пасквили и жалобы на всех, кто их «не пущал» в большую литературу, — все это автору решительно неизвестно, потому что сам он не был знаком со стихами обиженного поэта.
Серафим сидел в сквере и кусал давно потухшую папиросу. Дождь почти перестал, и прозрачен необыкновенно стал воздух, и резко и выпукло обозначились каждый камешек, каждая травинка. Где-то заунывно настраивался духовой оркестр. Сладко пахло волчьей ягодой.
Ударил марш, и светлые звуки меди покатились по улицам городка, и заметалась холодная жирная листва тополей, шевельнулась мокрая акация, сыпанув бисерные капли. Сначала расстроенно, а потом все слаженнее играл духовой оркестр. Темно-зеленые листья тополей переворачивались светлыми брюшками вверх, крутились, перелистывали холодный светлый воздух.
Гулко бухал барабан, пронзительно и стройно пела медь, музыка разбивалась вдребезги, в тысячу мелких брызг, и рождалось в груди щемящее чувство, которое может родиться только в такой внезапно холодный летний день, когда улицы опустели и скоро сумерки, когда невидимый оркестр выплескивает сверкающую в каплях дождя медь и ветер треплет тугую листву тополей.
Его узкое лицо сморщилось, он втянул голову в плечи и ссутулился. И руки его ощутили тяжесть трубы, и пальцы быстро пробежались по клапанам, он поднял трубу и слился с ней в долгом томительном поцелуе. За спиной ревела туба, пели альты, и у самого плеча его подрагивала кулиса тромбона. И он оторвался от трубы и открыл глаза, и опять оказался в сквере. Но все еще в ушах стоял горячечный крик тромбона, надсадно выл саксофон, и еще кто-то пьяненький сидел на ящике из-под пива перед самым оркестром и, вертя головой и хлопая в ладоши, всхлипывал: «Чича! Давай, Чича!» И саксофонист, виртуозно вихляя длинным телом, выдувал из своего инструмента серебряный и такой же длинный, как он сам, звук. Но картина потускнела, покрылась мелкими трещинками и вдруг осыпалась.
Серафим медленно подумал, что если бы жара — то и пыль, пыль мелкая, въедливая, всегда висящая в зной над городом. С болезненной ясностью он увидел желтый свет неба, почувствовал запах собственного пота, увидел жесткую грязь в сквере и легкий, но недвижимый мусор на тротуарах, безмолвно поникшую зелень, безучастные лица горожан, обалдевших от жары…
Томительно сладко, но и безнадежно больно было в груди.
Очень сильный запах акаций, песчаная дорожка, холодные брызги дождя, желтая медь… И нет никого. Он отбросил окурок и шумно втянул ноздрями воздух.
Внезапно оркестр умолк. Стало тихо. Так тихо, что было слышно, как падают капли в рыхлый песок аллеи и где-то далеко поет сигнал автомашины. Вдруг оркестр вздохнул тяжелым маршем, и тонкая грусть резанула лезвием по животу. Густой тяжелой печалью дышал оркестр.
Серафиму стало зябко, глаза его потемнели.
Поэты чинно курили в конце коридора. Свет из грязного окна с решеткой типа «над Уралом встающее солнце» прочно застревал в клубах сизого дыма.
Гистрионов вскользь похвастался зажигалкой «Ронсон», заметив, между прочим, что «Ронсон» серебряный и что за него «дают сто пятьдесят».
Костылев сочинял в уголке какой-то мадригальчик, искал рифму (поросль — недоросль — выдоросль — водоросль…), натужно шевеля губами и отчаянно поглощая сигареты «Лигерос».
Ветераны труда стояли чуть в сторонке от молодежи и спорили, кто лучше: Маяковский или Есенин. Приверженцы Есенина утверждали, что он был истинно гениальным поэтом, потому что у него «была душа», причем душа наша, русская. А Маяковский, конечно, тоже был ничего себе поэтом, но больше газетчиком. И с фокусами. Их противники отвечали, что Маяковский был революционером, а Есенин хоть и ничего себе поэтом, но пьяницей. А Маяковский вообще не пил. Разве что «Абрау».
— Пал Андреич! — обратились наконец спорящие к председателю, считая его как бы «в авторитете». — Кто самый гениальный поэт нашего века?
— Безусловно, Евтушенко! — твердо ответил тот.
Пал Андреич, окруженный молодыми поэтами, неторопливо и веско критиковал «Книгу о русской рифме» Давида Самойлова, называя его почему-то Копельманом. Он утверждал, что автор ни черта не смыслит в рифме вообще, а в русской — тем более. Мимоходом он ругнул и Жирмунского (хотя надо заметить, что Пал Андреич осилил «Теорию стиха» известного исследователя литературы только до двадцать третьей страницы, а когда ему стали попадаться примеры стихотворных размеров из французской, итальянской и немецкой поэзии в оригинале, ему стало скучно, и он книгу забросил, так как не знал ни одного из вышеупомянутых языков — он знал немного по-латыни, чтобы выписать больному рецепт, ибо работал в местной больнице врачом-психиатром) и тут же доверительно сообщил всем, что сейчас он, Пал Андреич, сам работает над статьей «О начертательной рифме» и что это будет не пустая вещь. Конечно, копельманы постараются ее «не пустить», но он все-таки статью пробьет. Связи у него там (он ввинтил руку в табачный дым) тоже кой-какие имеются, да-с!
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Назовите меня Христофором - Евгений Касимов», после закрытия браузера.