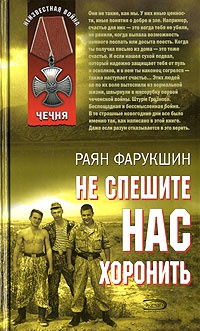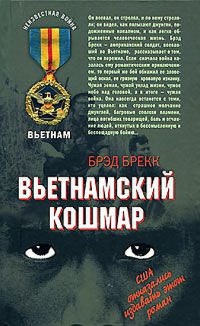Читать книгу "Навеки - девятнадцатилетние - Григорий Бакланов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Паровоз потянул на подъем, дым снаружи стал угольно-чёрный. Живой колышущейся тенью занавесило солнце в вагоне. Сквозь тяжкое, как из туннеля, пыхтение паровоза доносился с нижних нар чей-то весёлый голос. Временами его забивал перестук колёс, скрип вагонного дерева. А то вдруг голос слышней становился:
— …Они рубашки поскидали, вшей на них!.. Расстелили на столе, сидят друг перед другом, каждый на своей ногтем давит: «Айн рус капут! Цвай рус капут!..» Обхохочешься с печи глядеть. И сами смеются.
Рассказывал тот парень, который недавно щепочкой вынимал червей из раны, Третьяков по голосу узнал.
Одолев подъем, паровоз тяжко выдохнул из себя долгий гудок, опять стал слышен голос под нарами:
— …Бой… Да никакого боя не было! Наши с вечера отошли, склад запалили, бабы всю ночь растаскивали, кому что досталось. Утром они входят. Я как раз на крыльце сидел, лепёшку молоком запивал. Гляжу — едут на велосипедах. Жара, едут в одних трусах. Сапоги только и автоматы на голых шеях висят — во война! Я уж большой был, испугался, убежал в хату. Пацаны после рассказывали, они бегали глядеть: эти выезжают на плотину за деревней, а по оврагу два красноармейца идут, песни орут: оба пьяным-пьяны. И ещё в карманах по бутылке. Эти сразу автоматы наставили: «Рус, хенде хох!» Они и подняли руки.
Под покачивание и скрип дерева голос то громче слышался, то выпадал, и в какой-то момент Третьяков, слабый от потери крови, провалился в сон.
Он увидел себя под мостом: лежал в траве, затаясь за огромным камнем, а по мосту ехали немцы на мотоциклах.
Он слышал треск и выхлопы мотоциклов, видел, как шевелятся над ним бревна настила.
Стихло… Выглянул из-за камня. Впереди — сухое русло оврага, кусты. И вдруг почувствовал — не увидел, лопатками, спиной почувствовал на себе взгляд. Обернулся — немец. Стоит наверху, смотрит на него. Без шапки, мундир на потной груди расстегнут, из пыльного голенища торчит запасной магазин автомата. Не слезая с велосипеда, только повалив его себе на ногу, немец на верху оврага следил, как он вылезает на свет из-под моста. Враз обессиленный жутким сознанием непоправимости случившегося, он, не разогнувшись, снизу вверх смотрел на немца, а мысль металась загнанно; только что все было по-другому, и уже не изменишь, не исправишь ничего. Немец снимал с потной шеи автомат, помаргивал белыми ресницами. И, чувствуя, как отнялись ноги под наставленным дулом, он дёрнулся, крикнул и от своего крика проснулся.
Лежал, оглушаемый толчками крови в ушах, ещё не веря себе, что жив. Почему во сне всегда так страшно бывает? Ни разу в бою не было ему так страшно, как приснится потом. И всегда во сне ты бессилен перед надвигающимся.
Несколько дней спустя из окна санитарного поезда, из простынь, под мягкое покачивание рессор, увидел он из тепла мелькнувший за стеклом, прибитый заморозком, ещё не опавший сад. И ясно вспомнилось — даже запах почувствовал холодных осенних яблок, — как они всем классом ездили в подсобное хозяйство. На мокрой от росы жёлтой листве стояли старые корявые деревья, яблоки на них были ледяные, из кучи листьев подымался горьковатый дымок костра, ветром разносило его по саду.
А когда среди дня из серых туч повалил снег с дождём и стало темно, они собрались в сторожке при огне, озябшими красными руками выхватывали горячие картофелины из чугуна, стоявшего на столе, макали в соль. И молоко, налитое в кружки…
Все это так давно было, словно в другой жизни.
Здесь уже легла ранняя уральская зима. И таким белым был по утрам свет снега на потолке палаты, а солнце искрилось в мокрых стёклах, с которых обтаивал лёд. Однажды раненые взломали заклеенное окно, сгрудились в нем, хлопали в ладоши, кричали сверху, били костылями по жести подоконника:
— Дорожную давай!
Внизу, во дворе, у пригретой солнцем кирпичной стены бывшей школы, а теперь у госпиталя, школьный струнный оркестр на прощание выступал перед теми, кто вновь отправлялся на фронт.
— Дорожную давай! — кричали из окна. Третьяков ещё не ходил, но и на другом конце палаты хорошо было ему слышно, как в несколько мандолин и балалаек дёрнули во дворе понравившийся мотив. И молодой, радостный голос звучно раздавался на морозе:
Не скучай, не горюй,
Посылай поцелуй у порога…
Слепой капитан Ройзман шёл на свет к окну, хватаясь за спинки кроватей, опрокидывая табуретки по дороге.
Широка и светла Перед нами легла путь-дорога-а…
Три раза подряд исполняли внизу все ту же песню. Никакую другую раненые не хотели слушать: понравилась эта, вновь и вновь требовали её. И опять ударяли по струнам и, радуясь своей молодости, звучности, силе, высоко взлетал над всеми голосами чистый девчоночий голос:
Не скучай, не горюй…
Набежали в палату сестры, захлопнули окно, распихали раненых по кроватям:
— С ума посходили! На дворе мороз, воспаления лёгких захотелось?
В тот же день прихромал на протезе одноногий санитар. Когда-то и он отлежал здесь свой срок, выписался, а ехать некуда: дом его и вся их местность под немцами; так в госпитале и прижился. Он гвоздями накрепко забил окно, чтоб уж не раскрыли до весны: тепло тут берегли. Но до самого вечера все летал по палате этот мотив: один забудет, другой мурлыкает, ходит, сам себе улыбается. А в углу, поджав ноги, как мусульманин, сидел на своей койке Гоша, младший лейтенант, тряс колодой карт, звал сыграть с ним в очко.
По годам почти такой же, как эти школьники, успел он в своей жизни только доехать до фронта. Здесь эшелон попал под бомбёжку, контуженного, увезли Гошу в госпиталь. Но он опять сбежал на фронт и попал уже не под бомбёжку, а под артналёт. В себя пришёл он в госпитале. Врачи говорили, что это прежняя его контузия отдалась. А может быть, контузило вновь. Сам Гоша ничего толком ни разу не рассказал: начинал волноваться, заикался так, что слова промычать не мог, только сотрясался весь, как всхлипывал.
Каждый день с утра он уже сидел посреди кровати с колодой карт: ждал, кто сыграет с ним в очко. И вся вдаль угадывалась его судьба. Видел Третьяков таких ребят на базарах, у пивных, когда случалось в училище получить увольнительную: сидели безногие на земле, играли в «колечко», «верёвочку», что-то меняли из-за пазухи, жили одним днём. Или, зажав в синих култышках рук вскрытую пачку папирос, тряслись на морозе, торговали поштучно. Оттого-то врачи не спешили выписывать Гошу.
А видно было по всему, что парень он геройский и рвался на фронт подвиг совершить, но не выпало ему ни совершить ничего, ни погибнуть с честью.
По пятницам мимо госпиталя гнали в баню курсантов пехотного училища. Из бани возвращались с песней. Над колышущимся строем, над паром от серошинельных спин, от мокрых веников, дрожал не набравший мужества ломкий на морозе голос запевалы:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Навеки - девятнадцатилетние - Григорий Бакланов», после закрытия браузера.