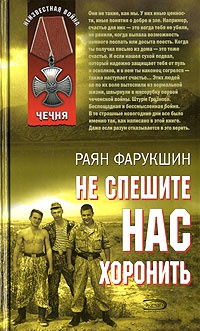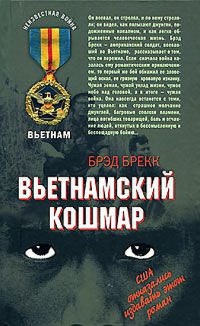Читать книгу "Навеки - девятнадцатилетние - Григорий Бакланов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Кричи, не терпи! Кричи!
Женский голос то пропадал, то рядом дышал, над ухом. Кто-то промокал ему бинтом лоб, лицо. Один раз близко возникли глаза хирурга, глянули зрачки в зрачки. Что-то сказал. И просторней вдруг стало сердцу.
Когда уже перевязывали, женщина подала в ватке кровавый сгусток.
— Осколок на память возьмёшь?
— Зачем он мне?
И этот звякнул о таз.
Слабого, дрожащего отвели Третьякова в палатку. И под шинелью, под одеялом он продрожал полночи. Закроет глаза и опять видит: бегут согнутые пехотинцы в сухой траве, впереди стеной — чёрная туча, гимнастёрки на пехотинцах и трава — белые. А то вдруг видел, как дрожит на операционном столе жёлтая нога, каменно напрягшаяся от боли, со сжатыми в щепоть пальцами.
И не раз в эту ночь видел он Суярова, зажмуривался и все равно видел, как бил его там, под обстрелом, на гиблом этом поле, а тот повалился на спину, мигает, заслоняясь руками. Ведь это последнее, что было у того в жизни: как били его. На черта он взял себе это на душу!.. И ещё палец на руке, безымянный, — отрубленный, как у мамы…
Пехота бежала среди взлетающих разрывов, и туча дыбилась стеной за противотанковым рвом. Что-то заклубилось в ней, как пыль закрутило смерчем. Покачиваясь, оно приближалось. И вдруг со сладкой болью в груди все в нем раскрылось навстречу:
«Мама!»
Печальная-печальная стояла она на той стороне, смотрела безмолвно. Он чувствовал её, как дыхание на щеках.
«Мама!»
И, задыхаясь от любви к ней, радуясь, что впервые за взрослую жизнь он может сказать ей это и ничего между ними не стоит, он устремлялся к ней, а его тянули за плечо, не пускали, оттягивали назад. Он дёрнулся с болью и проснулся. В сером рассвете чья-то забинтованная голова, как белый шар, качалась над ним.
— Чего тебе? — спросил Третьяков и отвернулся: щеки его были мокры от слез.
— Кричал ты. Может, нужно что?
— Ничего мне не нужно.
Он жалел, что его разбудили. Долго лежал так. Светало. В палатке началась суета. Санитары срочно поили раненых горячим чаем, подбинтовывали, проверяли повязки. Несколько раз, взволнованный, заходил врач. Что-то готовилось. Наверное, отправка в тыл.
Снаружи, за пологом, когда его открывали, все было в росе. И они лежали вровень с росой. Холодное солнце поднялось и стояло над лесом. Раненые прислушивались к недальнему громыханию боя, шевелились беспокойно на соломе, застеленной плащ-палатками.
Рядом с Третьяковым, спелёнатый бинтами, сидел командир батареи противотанковых пушек. Обеих рук у него не было выше локтей. Третьяков чувствовал парной, железистый запах его крови, пропитавшей бинты в тех местах, где кончались обрубки рук. Поддерживал комбата под спину боец его батареи, тоже раненный в этом бою, поил чаем из кружки, кому-то рассказывал за его спиной, как пошли на них немецкие танки, как все получилось.
— Главное, он ведь портной был до войны, — громко говорил боец, словно бы без рук комбат теперь уже и не слышит, и кружкой не попадал ему в губы. А тот сидел, ждал покорно. — Как ему без рук? Без рук он и на хлеб себе не заработает, — все так же при нем, как без него, говорил боец.
Что-то кавказское или еврейское было в лице комбата: белый нос с горбинкой, глаза навыкате, рыжеватые пониклые усы на бескровном лице. Отчима оно напомнило Третьякову, только тот усов не носил.
Резко раздернули вход в палатку и, заслоня солнце, вместе с длинными тенями, двинувшимися впереди них по земле, толпой вступили в палатку несколько офицеров. Первым — полковник в орденах. Из-за голов испуганно выглядывал врач.
— Здорово, орлы! А кто первым из вас в бою вскочил в немецкую траншею? — Молчание было некоторое время. Полковник ждал. Шелестом прошло по раненым:
«Командир дивизии!..» У входа в палатку поднялся с соломы легкораненый боец, молодой, бравый — хоть под знамя ставь.
— Я, товарищ полковник!
Командир дивизии оглядел его.
— Молодец! Герой!
И только повернул назад тугую шею, а уже адъютант из ящичка, который перед собой держал, подавал большую серебряную медаль «За отвагу». Она покачивалась на колодке. Командир дивизии собственноручно приколол её солдату на грудь.
— Заслужил! Носи!
Ещё один поднялся, не такой бравый на вид. Под гимнастёркой, натянутой поверх, прижата к животу согнутая в локте рука. И сам он весь над ней согнулся.
— Я тоже, товарищ полковник…
И ему прикрепили медаль на гимнастёрку. Больше никто встать не решился. Только слабый чей-то голос спросил из угла:
— Станцию самою взяли, товарищ полковник? Как её, станцию эту?..
— Взяли, взяли, орлы! Выздоравливайте. Медицина у нас хорошая, всех, кто способен, вернёт в строй!..
И так же стремительно вышел. За ним толпой — остальные. Последним догонял врач, оглядывался на раненых строго.
Нескончаемо скользила земля под насыпью, сизая пряжа паровозного дыма повисала на телеграфных проводах, кружили, кружили, исчезая, возникая вновь, осенние перелески. И засыпал он под скрип вагона, под стуканье, толчки колёс внизу и просыпался — все так же расстилает ветром по жнивью паровозный дым, поворачиваются поля, и под осенним пронзительно-синим небом маячит лес вдали, ярко-жёлтый, когда упадёт на него солнце.
Где-то на севере снег, наверное, уже выпал: холодом наносило в дверь вагона. А здесь, сколько едут, все так же прощально греет солнце эту осеннюю землю, по которой дважды прокатилась война и в ту и в эту сторону.
Проснулся он — санлетучка стоит в поле. Тишина. Дверь вагона откатили, в проёме, свесив босые ноги на ветерок, сидит на полу боец в галифе, в бязевой рубашке с оторванным левым рукавом. Руку разбинтовал, нагнув над ней стриженую голову, выбирает из раны червей тоненькой щепочкой. Другой боец стоит внизу, смотрит внимательно, сматывает бинт. Ещё один подошёл, прохрустев костылями по осыпающейся щебёнке:
— На что ты их выбираешь? Они полезные, рану очищают.
— Ага… Знаешь, как под повязкой щекотят! Тонко засвистел паровоз в голове состава. В открытую дверь полезли раненые, совали внутрь по полу костыли, кто-то прыгал снаружи, схватясь руками. Его втянули в вагон.
И опять скользит земля под насыпью, садится дым на провода. Тишина в полях.
С верхних нар Третьяков смотрел, смотрел на эту осеннюю красоту мира, которую мог бы уже не увидать. Ненамного хватило его в этот раз, на один бой и то не до конца. А на душе спокойно. Сколько же это надо народу, если война длится третий год и одному человеку в ней так мало отмеряно?.. Перед училищем он все же год пробыл на фронте, и ранило его тогда по глупости: не ранило, ушибло. Конечно, тот Северо-Западный фронт, где все велись бои местного значения, не равнять с этим. Но и там убивало, много там осталось в болотах, в тех сырых, заболоченных лесах.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Навеки - девятнадцатилетние - Григорий Бакланов», после закрытия браузера.