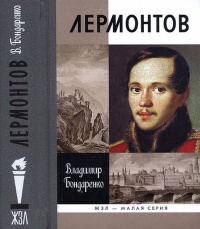Читать книгу "Лермонтов - Алла Марченко"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поездка оказалась неудачной. Водяной доктор, давний знакомец Екатерины Алексеевны Хастатовой, никакого лечения, кроме горячего серного обтирания, внуку не назначил. Привозите, мол, года через два, не раньше. И обязательно в мае. Елизавета Алексеевна уже и сама поняла: поторопилась. Мишенька плохо переносил жару. Слава богу, у Кати и впрямь «земной рай». В Шелковой и переждали жару и с первой же подходящей оказией двинулись восвояси.
Вернуться вернулись, а жить негде. Постройка в Тарханах не завершена; Афанасий Алексеевич плотников не торопил, не ожидал, что Лиза так скоро обернется.
Пришлось коротать зиму в Пензе, в родительском гнезде; теперь там, по смерти батюшки, хозяйничала Наталья. В прежние годы Елизавета Алексеевна с младшей сестрой накоротке не была, а теперь подружилась. Наташа мужских хозяйских забот на себя не брала, за мужем как за каменной стеной, зато по женской части расторопна – и дети веселы и здоровы, и мебель модная, и платья-шляпки из Москвы из французского магазина выписывает. Старшие сестры – и Александра, и Катерина – в Москве что чучелы огородные, а Наталья и в Петербурге своя. Все – на Кавказ, а Наташа – в Петербург: Алешке, ее старшему, тринадцать исполнилось, пора в гвардию пристраивать, пока Мордвинов-старик жив да здрав и Аркадий в силе.
Наташе Елизавета Алексеевна и рассказала про то, в чем Кате, от которой прежде ничего не скрывала, не решилась признаться: Миша, мол, от меня ни на шаг не отходит, а на руки не идет. Силком возьмешь – вырывается, голову сломала, пока поняла: от меня все еще бедой пахнет. И няньку свою, тарханскую, не любит, плюется, капризничает, платок срывает, за волосы дергает. Да и она им, хворым, брезгает. Лебезит, а брезгает. Подумай, Наташа.
Думать думала, да ничего не придумала Наталья Алексеевна. Не придумала, а нашла – через забор высмотрела. Не в Пензе – в Москве. В Москву поздним летом 1820-го они вместе наведались, вместе, втроем, и остановились у Мещериновых, прямых родственников Елизаветы Алексеевны (отец семейства – дядька родной, брат матери). И вот идет Наталья Алексеевна как-то по Сретенке, с Кузнецкого возвращаясь, а из пансиона немецкого мальчишки горохом высыпали, а с ними – фрейлейн, сильно немолодая, но старой не смотрится, чистенькая, накрахмаленная. То ли нянюшка, то ли бонна.
Знакомиться к немцам отправились втроем, разговор-уговор вела тетушка: фрейлейн Румер, из пансиона, кроме как в театр немецкий да в немецкий же магазин по крайней женской надобности, не отлучавшаяся, по-русски понимала плохо. Тетушка же и уговорила. Впрочем, уговаривать долго не пришлось. Хозяин давно намекал, что хотел бы видеть на месте Христины молоденькую племянницу.
Мишель поначалу новую мамушку вроде и не замечал, а та и не настаивала; он играет, она возле лампы, белой мышкой в креслице, петли считает. Айн, цвай, драй… Подошел, вязанье выдернул и сам на колени забрался…
Ни елки, ни детских рождественских праздников Елизавета Алексеевна для внука уже не устраивала. Но Христина в чистенькой своей светелке все-таки ставила малое деревце. А под деревцем для него, Мишеля, в золоченой бумаге затейливый фигурный пряник. Каждый год разный: то зверь дивный, единорог, то птица о двух головах. Сладкое из-за золотухи ему давали редко, с разбором, предписание доктора Елизавета Алексеевна исполняла неукоснительно, но на мамушкин пряник запрет не распространялся. Вместе с пряником Христина усаживала мальчика на подоконник; снегу за ночь навалило много, мягкого, с метелью, заоконный сугроб доставал до нижних наличников. Мишель осторожно откусывал от пахнущего корицей лакомства, а сам слушал. Пришедшая за немецким гостинцем Дарья-ключница рассказывала:
– Мужики на пруду в кулачную веселились. Ваську, садовника, чуть не забили. Кровью харкает. И поделом козлу. Всех девок перепортил! В кухню приволокли – отлеживается. И жидок наш тут же, с примочками. И барыня охает. Как в Пензу на Святки, так чтобы Васька Калашников вез! Возок непригляден, лошаденки неважные, зато возница – хорош!
– Бабушка, а что такое жидок?
– Забудь это слово, Мишенька.
Зиму осилили, а по весне прежняя хворь на внука накинулась. Дел невпроворот, да и стройка сбережения съела; не для себя старалась, для Миши, на спичках не экономила. К тому же брат Александр Алексеевич все расходы дорожные на себя взял, а там, у Кати, как-нибудь разместимся: лето не зима, в тесноте, да не в обиде.
На этот раз, в 1820 году, упование Елизаветы Алексеевны на всемогущество горячих вод оказалось верным. К концу водяного сезона сестры, глядя на Мишеля, уже не прятали от нее соболезнующих скорбных глаз. Серные ванны вылечили-таки «заморыша» от мучительной золотухи. Сперанский, навестив Тарханы весной 1821 года, записал в дневнике: «Посещение Елизаветы Алексеевны. Действие кавказских вод. Совершенное исцеление».
На радостях Елизавета Алексеевна раскошелилась. Разыскала в Пензе «настоящего», академию осилившего художника и заказала два портрета, Мишин и свой. Для своей парсуны с помощью Натальи парадный туалет сообразила. Надевала его, правда, только раз в году, когда созывала гостей в день рождения внука. Разъезжались гости, и хозяйка Тархан праздничный наряд скидывала – убери, Дарья, да так, чтобы ни шелку, ни кружеву ущербу не было. И кольца, и серьги старинные, батюшкой к помолвке подаренные, снимала, в шкатулку прятала. Для будущей снохи, дескать. А Миша пусть на портрет смотрит, на портрете-то бабка никогда не состарится. На радостях же и француза к Мише взяла.
Наполеоновский гвардеец, тяжко раненный при отступлении под Смоленском и спасенный от верной смерти сердобольным русским семейством, Жан Капэ по заключении мира не вернулся во Францию, где не осталось у бедолаги ни родных, ни имущества. Когда Елизавета Алексеевна решила взять его в дом, дабы учил внука французскому, пензенские сестрицы пришли в ужас. Но Сперанский, побеседовав с мсье, выбор вдовы Арсеньевой одобрил: природный парижанин, мсье изъясняется на таком живом и сочном французском, на каком в дни его юности говорила революционная Франция. Дорогие учителя, из высокородных эмигрантов, этого языка не знают. Что до французской изящной словесности, то мальчик, повзрослев, литературный язык легко освоит, с его-то памятью и прилежанием. А пока пусть они, старый да малый, разговаривают.
И они разговаривали. Ни с кем, кроме Мишеля, Капэ не мог говорить о главном в своей жизни: о военных походах, солдатском братстве и, конечно же, об императоре. Капэ же преподал своему питомцу и искусство верховой езды. Кавалерист, он знал это дело до последней тонкости и лошадей понимал лучше, нежели людей, среди которых доживал утратившую смысл жизнь. Хорошенькую «башкирку», которую для внука приготовила бабка, он сразу же забраковал: и смирна, и послушна, но жеребенка к молоку не подпустила. Так лягнула, что о-ля-ля! Высмотрел другую. Каурая лошадка на первенца своего неказистого словно налюбоваться не могла! Но прежде чем посадить мальчика в седло, Капэ чуть не месяц, взгромоздив Мишеньку на плечи, выводил и кобылку, и жеребеночка на лужок; там они вчетвером друг к дружке привыкали, приглядывались. А когда наконец решился посадить мальчонку в седло, вызвал бабку. На ее глазах и осилили первый урок. И оба удивились: лошадка ступала так плавно и мерно, словно понимала, как дорог хозяйке доверенный ей крошечный всадник…
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Лермонтов - Алла Марченко», после закрытия браузера.