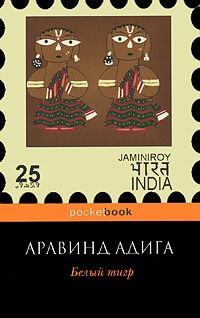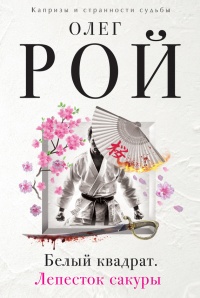Читать книгу "Белый, белый день... - Александр Мишарин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ей уже сказали, что он в милиции… (Но не дай бог! Нет! Не в тюрьме! Не осужден на пять лет. Что его, того и гляди, должны были отправить по этапу.)
Анна Георгиевна с молодой крупной женщиной, адвокатом Валентиной, развили бурную деятельность, чтобы Сережку отпустили, пусть под конвоем, хоть на несколько часов попрощаться с матерью… Собрали все справки. В том числе и самые страшные: «… о паре недель, что больной Мартыновой К.Г. осталось жить».
Валентина-адвокат была уверена, что добьется свидания. Но ответ – после пяти горячечных дней, полных надежд, серьезных, почти праздничных обедов с водкой и любимым матерью сладким грузинским вином «Салхино», – все оттягивался…
Павлик уже понимал, что приглашали к столу всех, кто хоть как-то мог повлиять на решение.
Приходили обедать мелкие судейские… Плохо одетые, какие-то стершиеся седоватые дамы… Веселые молодые друзья Валентины – тоже адвокаты… Они были горластые, уверенные. Кричали, что дойдут до самого Волина, но добьются!
Всем, конечно, портил настроение вид самой умирающей…
Кушетка стояла буквально впритык к накрытому белой крахмальной скатертью – с оставшимся фамильным серебром – праздничному столу.
Приходил, конечно, и дядя Кеша. Худой, небритый… Тихий-тихий. Или неестественно веселый, почти как клоун.
Водку Анна Георгиевна строжайше ему запретила. Но тетя Клаша, уже все понимая, сама просила сестру:
– Ну пусть Кеша выпьет. Он ведь так это любит. А потом, что за грех – рюмка-другая? А? Ты бы и мне налила «Салхино». Я всегда у тебя его с таким удовольствием пила!
Под шумные возгласы: «Конечно! Рюмка-другая не повредит!» – наливали и тете Клаше. Она проливала вино на подушку. На белый пододеяльник. И в конце концов с удовольствием выпивала…
Но Иннокентий Михайлович под грозным взглядом Анны Георгиевны не пил ни капли!
Павлик, тоже усаживаемый матерью за стол («Ты ешь! Ешь! – шепотом говорила она. – Не всё же добру пропадать!»), не понимал, почему дядя Кеша такой веселый. И одновременно такой смирный.
Конечно, дядя Кеша всегда был и балагур, и любитель подтрунить над любым. Даже над сестрами жены! Рассказать анекдот и вообще быть душой любой компании… Павлик помнил, что в бирюлевском доме была гитара. Тетя Клаша хорошо играла и пела старинные романсы. И веселые, и трагические – со слезой. Но иногда, когда уже было поздно и гости расходились, а Павлик засыпал в дальней комнате, дядя Кеша пел один. Пел замечательно! Тихо, трогательно. Несильным, прочувствованным тенорком.
Была у него – как П.П. поймет через много-много лет – абсолютная музыкальность, помноженная на скрываемую в обычной жизни нежность души… Ее легкое, так передаваемое музыкальным даром, изящное жизненное дыхание.
Он вообще был изящным, талантливым человеком! Нежным мужем и нечеловечески любящим отцом…
…Почти через тридцать лет уже взрослый, похоронивший отца, тридцатичетырехлетний Павел Павлович стоял у смертного одра дяди Кеши… И тот, слабо обнимая Пашу, любуясь им – в самом расцвете мужской силы и красоты! – ласково, одними губами произнес:
– Сережа!.. Сереженька! Господи, он мог бы быть таким же! Ты не обижайся, Павлушка! Я его каждую ночь вижу! Буквально каждую!.. Одного прошу у Бога – хоть на том свете встретиться!..
Старый дядя Кеша говорил все это тихо и мужественно. Всё слабеющим голосом, почти шепотом. Только для них двоих. И на последних словах закрыл глаза.
И больше не дышал.
Павел бросился за врачом… Умирающему сделали укол. Еще один…
Дальнейшего Кавголов не помнил…
А тогда, конечно, в свидании отказали.
Отец, побывавший у Романова, который оказался замом того знаменитого Волина, до которого грозили добраться пьяненькие адвокаты, принес недобрый, недружеский ответ: «Раньше надо было думать! И потом, что это изменит? Лишние страдания и для умирающей матери, и для ее преступного сына».
Отец не стал комментировать романовские слова… Сразу же лег на кровать и закрылся пледом. Выпил одно лекарство, другое… И наконец затих.
Отец вообще не хотел ни с кем ничего обсуждать!
К этому времени постепенно, но явно у него вообще не осталось друзей. Была только семья, за которую он нес ответственность. И мать это понимала.
Моложе отца почти на двадцать лет, она часто говорила: «Старые да малые!» И надолго задумывалась… Но не слишком надолго. Надо было стирать, готовить, штопать… Как она это называла – «чертомелить»?
Перед тем как тетю Клашу снова отвезли в Остроумовскую больницу, Павлик проснулся среди ночи от едва различимого шепота.
– Я тебе так благодарна, Анечка! – услышал он прерываемый слезами слабый голос тети Клаши. – За всё! Хороший ты человек! Я всегда это знала. Но чтобы так! Взвалить всю мою семью на себя! У тебя же своих-то… И зачем ты на меня так тратишься?! Зачем эту гомеопатку знаменитую приглашала? Сколько же она взяла, интересно?
Анна Георгиевна что-то ответила.
– Ох, бесстыжая! Да я бы знала… век бы ее к себе не подпустила! Как же! Вылечат меня ее шарики! Может, лет двадцать назад, когда все начиналось, тогда бы и шарики сгодились. Помнишь, я тогда с Кешей еще в Кяхте жила. Я все тебе писала: «Что-то со мной не так! Что ни поделаю по дому, голова кружится. И все прилечь хочется…»
Она тихо заплакала. Анна Георгиевна ласково, но осторожно погладила ее по лбу, по лицу.
– Не плачь! Ребят разбудишь. Хотя им уж скоро вставать в школу.
– А как же ты? Сколько ночей уже не спишь? Анечка моя дорогая!
– Тише! Тише! Спи! Тебе силы для больницы нужны.
– Только пообещай мне, Анька! Ты не бросай Кешу с Сережкой! Они такие беспомощные в жизни. Они же погибнут без меня!
«Тоже мне нашлась опора в жизни!» – чуть ли не со злостью и слезами подумал Павлик. И, повернувшись на другой бок, сразу – как только бывает в детстве – заснул…
Нет, Анна Георгиевна никак не смогла бы выполнить наказ младшей сестры. Как выяснилось позже, Сережа к тому времени уже погиб в лагере. Чуть ли не в первые месяцы… То ли характер его – не приведи Господь! – то ли просто проиграли его в карты… Так кто-то говорил, передавал.
После похорон жены и исчезновения из его жизни сына дядя Кеша страшно запил. Чуть не замерз в снегу в двух шагах от своего дома. У него открылось тяжелое двустороннее, крупозное воспаление легких.
Анна Георгиевна весь решающий месяц, когда он был на грани смерти, каждый день, как на работу, ездила к нему в домодедовскую больницу. Практически на весь день.
Как уж они сами существовали? Этого П.П. не помнил…
Месяца через полтора, уже к весне, мать Павлика как-то раз вернулась из больницы, бросила сумки на пол, опустилась на стул и неожиданно для всех разрыдалась. Она отталкивала руки отца, пытавшегося снять с нее оренбургский платок, отворачивалась, почти с брезгливостью, от Павлика…
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Белый, белый день... - Александр Мишарин», после закрытия браузера.