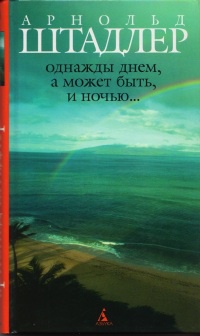Читать книгу "Паранойя - Виктор Мартинович"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Толпа начиналась едва ли не прямо у подъезда. Впечатление было, будто люди со всей страны собрались в бедном маленьком центре города, на тихом пятачке которого случилось прорасти моей «сталинке». Странности начались прямо с утра, когда под тополями, вместо расставленных шахматными фигурами по всему двору котов, всегда обращенных в своей дневной дреме друг к другу и готовых сорваться с боевым воем к сопернику, переступившему незримую для человека границу кошачьей территории, — так вот, вместо этих щурящихся бурдюков под тополями вдруг появились люди— с туристскими ковриками или просто старыми покрывалами, пакетами с едой и алкоголем. Они по–хозяйски раскладывались на детской площадке, под бельевыми веревками, садились на землю, нарезали помидоры и огурцы, разливали водку по пластиковым стаканчикам. И коты, спрятавшиеся под машины, с удивлением осознавали, что есть еще какие–то огромные, тяжелые, пахучие двуногие, которых никакими воинственными воплями не отогнать, и брезгливо отходили, когда очередной празднующий пытался протянуть им кусок вспотевшей от лежания в целлофане колбасы. Ощущение было, что у всей страны случились поминки, и проводить покойного она собралась в моем дворе и дальше — во всем центре.
Я аккуратно прошел мимо уже познакомившихся, уже сдвинувших коврики и покрывала в один большой стол людей (коты смотрели на это смешение территорий удивленно, еще больше убеждаясь в собственном стерильном превосходстве над этой двуногой, хаотичной расой), вежливо отказался от протянутого мне вдруг стакана, позволил себя обнять украшенному медалями ветерану и вспомнил. Конечно же. Сегодня — второе июля. День генеральной репетиции. Как же я забыл! Именно потому она и назначила встречу на сегодня, что «у уток» будет столпотворение, в этой пестрой, неместной, пьяной толпе нас вряд ли увидит кто–нибудь неслучайный. Генеральная репетиция за день до Дня города. Когда–то сам День города — третье июля, праздник освобождения моего города от фашистов, был основным событием для этих людей, праздником с военным парадом, гала–концертом, салютом. Но Муравьев слишком брезгливо относился к картофельным лицам счастливых избирателей, чтобы мешать с ними свои торжества. И в определенный момент повелось так: для народа устраивали «генеральную репетицию», или, как писали на плакатах во всем городе, «Генеральную Репетицию», — с настоящим салютом, ночным парадом техники, с концертом, а потом, на следующий день, праздник за оцеплением делали для одного Муравьева и имеющих спецпропуска членов МГБ, администрации президента и правительства. Никто точно не знал, что творится там во время Дня города: «генеральные репетиции» уже лет десять как не совпадали с тем действом, что были призваны «репетировать». Жители близлежащих к трибунам домов, которым под страхом снайперского выстрела запрещали приближаться к окнам, рассказывали о чудовищных по громкости звуках органной музыки, или о каких–то «китайских драконах», летающих по небу, или о классике французского кино, которую проецировали прямо на многоэтажки микрорайона так, что «экран» для единственного зрителя растягивался на пятьсот метров, — и мне очень интересно было бы посмотреть, с каким лицом он смотрел на все это. Очевидно одно: никаких салютов, никаких циркачей и лыжников, никакой Пугачевой на муравьевских торжествах не было. И скажи об этом любому из этих одинаковых крепких, приземистых мужчин в белых, торжественных рубашках с коротким рукавом — они не поверили бы; они и пили–то сейчас, разогреваясь перед невероятным для них чудом салюта, провозглашая тосты «за него», празднуя свою сопричастность, впуская его за каждый стол, наливая ему и протягивая закусь.
Каждый раз накануне генеральной репетиции я старался уехать из города, происходящее казалось мне чудовищным обманом, но сейчас, толкаясь в толпе по направлению к нашему горькому парку, я видел вокруг лишь счастливые лица. И понимал, что Муравьев и здесь все сделал правильно, что этим людям нужен именно такой праздник. А большая компания молодежи рядом пила водку, передавая бутылку из рук в руки на ходу, и куталась, куталась в государственный красно–зеленый флаг, и за одним из его складчатых изгибов кто–то целовался, валясь прямо на землю, под ноги, и ничуть не смущаясь, и через них, уже полуобнаженных, пьяных, переступали, не обращая внимания, потому что мало ли что еще можно увидеть в вечер генеральной репетиции, когда водка в любом магазине стоит в два раза дешевле, а милиции запрещено трогать пьяных и дерущихся. Меня вдруг подхватили за руку и потянули куда–то вбок, в противоположном нужному мне направлении, и оказалось, что я попал в змейку — людскую цепочку, петлявшую среди людских масс, поющую что–то патриотическое, и к моей свободной руке уже прилипла облаченная в коротенькое, обтягивающее платьице с блестками рыжая бестия, улыбающаяся мне во весь рот, и — Боже, почему я не могу быть таким же простым, как они? Я соединил ее руку с той, что тянула меня в людской змейке, и послал ей воздушный поцелуй, хотя она даже не обернулась. Под ногами хрустел мусор, впереди была массовая драка — кто–то что–то не так сказал или, скорее, не так понял. Девушки визжали, а в общей свалке и пыли бросались в глаза только яркие пятна крови, так героически смотревшиеся на белых рубашках; милицейский патруль, стоявший в двухстах метрах, не ввязывался, конечно. У каждого из них, может, есть приглашения на завтрашний настоящий праздник, кому ж охота приходить в синяках из–за того, что переусердствовал, охраняя порядок на репетиции. Людская толпа изменила проспект, я потерял ориентацию— то тут, то там стояли сцены, на которых двигались чуть более равнодушные к происходящему, чем это можно на концерте, певцы. Но зритель — раскрасневшийся, пошатывающийся, с текущими по подбородку соплями — все прощал. Здесь, в самом центре, уже не сидели — не было места, — здесь стояли, шли, танцевали, здесь пили на ходу и что–то говорили случайным прохожим — как этот мужчина в каске из черных башкирских волос, постриженных так, что они напоминали головной убор, — он, сбиваясь на какой–то восточный язык, говорил мне про наш город–герой и называл меня Андреем, но потом на секунду замер, всмотрелся в меня и спросил, где Андрей, и убежал назад, искать своего Андрея, а мне хотелось вынырнуть отсюда, просто вынырнуть вверх. Сменить среду обитания, переплыть из соленых вод этой толпы в пресные наши воды, и декоративная речушка с утками была прямо передо мной, и мостик, с которого ты умилялась, глядя на уток, и все это было усеяно телами, которые чокались, чокали и гэкали. Утки, обескураженные происходящим, улетели в теплые края либо нажрались вспотевшей от долгого лежания в целлофане колбасы до того, что не могли больше плавать и камнем пошли на дно. Я выглядел недостаточно чужеродным этой среде, недостаточно инопланетянином или белым медведем, потому что ко мне постоянно обращались, и я делал все для того, чтобы они поняли, что обращаются по ошибке, что я пришел не на генеральную репетицию, не на их генеральную репетицию, а этот мужчина в усах и — о чудо! — не в белой рубашке с коротким рукавом, а в самой настоящей тельняшке, еще пару минут назад сомнамбулически танцевавший прямо посреди декоративного пруда, держа в одной вытянутой руке бутылку водки, во второй — ломаный кусок хлеба, — танцевавший в позе, делавшей его похожим на «Девочку на шаре» Пикассо, так вот, этот мужчина спросил у меня: «Где будет салют?» И прежде, чем я понял, что не отвечать вообще — некрасиво, что ответить надо, — его приятель, только что шаривший руками по дну прудика, пытаясь изловить декоративных золотых рыбок (хотел закусить водку?), ответил за меня: «Везде!»
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Паранойя - Виктор Мартинович», после закрытия браузера.