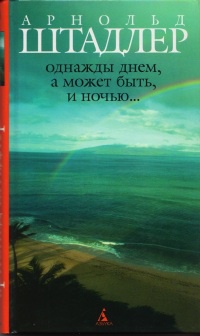Читать книгу "Паранойя - Виктор Мартинович"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
То в кафе «Шахматы», за тем столиком, где мы играли в футбол, рядом с заказанной чашкой зеленого чая, появлялась вдруг банка сгущенки, и официант, на все попытки выведать: кто, кто и когда?! — лишь округлял глаза и клялся, что поставил случайно, что нес на кухню, чтобы повар добавил ее в тирамису, а где–то за его перепуганным лицом крылось еще одно, озорное, и, если бы я рассмеялся, он бы тоже рассмеялся этим своим лицом — рассмеялся и рассказал — о том, что ты приходила, как и когда. Но я начинал горячиться, и он путался, и ему казалось, что, может, эта банка значит отнюдь не озорную проказу, и я исправлялся, и пытался улыбнуться (поди улыбнись, когда дело идет о нас!), а он уже убегал на кухню с моей банкой — банкой лакомства для белого медведя, и я устремлялся за ним, и хватал за шиворот, и кричал, что это — для меня, и он отдавал. А дома каждый миллиграмм сгущенки процеживался, каждый миллиметр этикетки изучался под лупой на предмет намеков и записок, но — medium is the message[4](опять Маклюэн!), сама банка и была и намеком, и запиской.
Или, на излете пятой недели, на billboard у моста около Троицкого предместья — нашего моста, моста, под которым мы смотрели на догорающие угли города, — огромными золотистыми буквами надпись: «МЕДВЕДЬ!» — такой жирный намек, спасибо тебе! И подходишь ближе, и видишь сюжет — ты придумала сюжет! Молодой человек за чашкой зеленого чая в кафе одной рукой отодвигает от себя блюдечко с сахаром, а второй — льет, льет себе в чашку тягучий мед. И улыбается, глядя направо (там, в кафе «Шахматы», ты сидела справа от меня!). И слоган, который я ошибочно принял издали за прямое обращение ко мне: «МЁД ВЕДЬ!» И ниже, крохотными буковками, название компании — оптового поставщика меда, «Медвест», которой — я проверил — никогда, конечно же, не существовало. И в государственной рекламной конторе разводят руками, говоря, что уже готовый эскиз пришел по электронной почте, а заказ был оплачен по безналу, а счет они мне не скажут, конечно же. И не знаешь— верить им или нет, или вот этот конкретный дизайнер вместе с тобой вот за этим компьютером, высунув язык набок, лепил этого «МЕДВЕДЯ», а ты его поправляла. Но — не так уж и важно, главное, я знал, что ты рядом, что у нас — не «всё», что разлука — не навсегда, что мы обязательно встретимся.
А за окном — первые далекие раскаты, первые трепетные вспархивания молний. Не зря потели от ужаса тополя! Гроза, о необходимости которой так много говорили молчащие деревья, — вот она, и нужно закрыть все окна и выдернуть шнур из розетки, и можно уже укладываться, ведь завтра — завтра! — мы встретимся, я это точно знаю.
Когда сегодня я проходил под мостом — а безделье часто теперь меня выгоняет на прогулки, хотя я и раньше–то много гулял по городу, стараясь набрести на сюжет, в ритме собственной походки услышать тиканье правильных слов, — так вот, когда я проходил под мостом (я добавлю только, что маршруты мои теперь сильно изменились и, идя отвлеченными улицами — где–то между трехэтажек на Коммунистической, я так и норовлю свернуть куда–нибудь к нашему треугольнику — к Маркса, к Троицкому, к горькому парку), да, — гуляя под мостом, я обнаружил человечка в оранжевой робе, стремительно затирающего сделанное твоей рукой граффити. На робе было написано «Минжилкомхоз» — оранжевый человек был из того самого комхоза, в обязанность которого входит подрезание деревьев, подметание дворов, срывание антимуравьевских листовок и закрашивание граффити, за нанесение которых (знала ли ты это?) дают до пяти лет тюрьмы. Оранжевый человечек начал закрашивать надпись с конца, закрыв своим телом середину, и пока разобраться сложно… Вообще–то, останавливаться не положено — здесь все еще может работать МГБ, собирающее улики против преступника, испортившего городскую собственность, но вокруг вроде бы ни души. Надпись, сделанная охристым цветом из баллончика. Из–за спины оранжевого проглянуло слово «утки», и вариантов больше нет, я чуть ли не плечом его отодвинул и уставился на стену, и вид у меня, судя по всему, был достаточно профессиональный, так что он не протестовал, он отступил. Я прочел там: «Сутки памяти по исчезнувшим. Завтра в…» — окончание, такое важное, было уже закрашено. И ты все сделала правильно, такие надписи, про «сутки памяти», действительно встречались на заброшенных мостах и удаленных от центра заборах — их фотографировали оставшиеся в живых, на свободе, и пересылали на Запад, и Западу казалось, что здесь есть какое–то массовое народное сопротивление, а МГБ безошибочно выслеживал граффитчиков — по следам на месте нанесения, по электронным адресам, да бог (нет — черт!), черт его знает как еще! И сажал их в тюрьмы, и надписей с каждым годом становилось все меньше. А увидев такую надпись, нужно было выставить к окну зажженную свечу, показывая, что ты — помнишь. Но никто не выставлял, конечно, потому что боялись, хотя свеча на окне в определенное время — не преступление.
Так вот, слово «сутки» было написано очень странно, буква «с» на полметра отступала от продолжения, и МГБ, конечно, здесь подумалось, что граффитчик начал орудовать баллончиком и, едва закончив «с», вдруг чего–то испугался, дал деру, а потом вернулся и начал уже с другого места, допустив отступ, сообщивший этим прозорливцам о моментной слабости. Но я — я–то сразу прочел что надо, я прочел — не «сутки», а «утки», наших с ней уток, наши с тобой гадкие утки–предательницы, «утки — суки», «утки — сутки». И ведь главного ты не учла, и они там, в своих специнститутах и аналитических группах, сейчас ломают, ломают над этим нюансом головы — «сутки памяти» всегда проводятся шестнадцатого числа любого месяца, в день, когда исчезли главные его враги — Сераковский, Врублевский, Домбровский. Враги, укравшие ли себя сами, убитые ли — неважно. А сегодня… Какое же сегодня? Первое! Так просто вспомнить — первое июля! Завтра — второе, а стало быть, никакие «сутки памяти» завтра не нужны, не по ком завтра скорбеть, ты, глупая, и не знала, наверное, о том, к чему все эти «сутки», выводя своих «уток» для меня. Я проходил здесь вчера, и стена была чистой, а стало быть, эта надпись могла появиться лишь сегодня, и конечно — как же еще! — появись она там раньше, ее бы обязательно стерли, закрасили, в этом городе такие надписи больше двух часов не живут. И оставалось только узнать — когда же? Что было там, под свежим серым слоем, там растопыривались какие–то цифры, но их было не разобрать. И я, недолго думая, спросил, понимая, что рискую, но ведь отступил этот «комхозник», дал мне прочесть про «сутки»: «Что было дальше?» А он так нагловато хмыкнул и прищурился то ли с издевкой, то ли с одобрением и поинтересовался в ответ: «Сам–то кто?» А я, пытаясь воспроизвести их интонацию — хотя ни разу и не слышал ее толком, — деловито, с легким нажимом: «Кто надо». И всякая улыбка вдруг из этого, оранжевого, ушла, он будто глянул на меня презрительно–брезгливо, и обернулся к стене, и неестественно запричитал: «Вот нашел бы, кто написал, руки бы повыдергивал. Грантососы хуевы. Шестнадцать сорок пять». «Ничего больше?» — уточнил я, но он уже не оборачивался, демонстрируя одновременно и презрение, и боязнь к этим, которые «кто надо».
И, естественно, если бы он не сказал, я бы все равно ждал тебя там, у наших уток, ждал бы с самого утра, сутками у уток, пока не придешь. Белые медведи любят сгущенку, а что любят Елизаветы? Почему я не спросил? Музыкальные шкатулки? Нет, скорее — мелодии, музыку, певучую, как их имена. Мне нужно прийти к уткам с карманами музыки, с пригоршнями нот, и кормить ими тебя, самому снимая с нот фантики, и я уже вижу, какими могут быть эти фантики на нотах, вкусных, шоколадных нотах, но это уже — сон, сон.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Паранойя - Виктор Мартинович», после закрытия браузера.