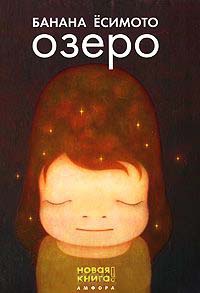Читать книгу "Деревенский бунт - Анатолий Байбородин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Рубилась изба топором – отчего и сруб, поскольку в отличие от пилы, рвущей дерево на торцах, раскрывающей древесные поры, где копится сырость и гниль, топор заглаживает, утаивает поры, и венцы не страшатся сеногнойных дождей и грибной прели – два века простоят.
Крестьянская изба сроду не перечила лесам и степным увалам, рекам и озёрам, но любовно прилаживаясь, сливаясь с окрестной природой, вершила её красу и волю. Обряженная потаёнными резными карнизами, причелинами, «полотенцами», коньком на охлупене, в коих замерли навечно древние заклинательные знаки-обереги (кресты, знаки солнца, земли, вод земных и небесных), – русская, славянская изба являла собой и образ Вселенной, образ Творения Божьего.
В красивой избе – полагали древодельцы – и жизнь родовы сладится красивая, и чада нарожаются бравые, удалые, древодельные искусники, для чего, подражая окрестной природе, украшали избу затейливой пропильной и рельефной резьбой. Резные кружева радовали, тешили душу домочадцев щедро украшенной избы, а магическими знаками-оберегами, по древнерусским поверьям, ещё и оберегали душу от нечистой силы. Канули в православную вечность языческие суеверия, но выжила краса, воспевшая мощь природы и человечий образ – недаром изба и очеловечивалась: передняя часть – лик, окошки – очи, узоры над окнами – брови, резные «полотенца» по венцам – ланиты, фронтон – чело.
Зажиточные крестьяне и мещане, а уж тем паче томские, иркутские купцы – радетели городского и посадского благолепия – старались пышнее, искуснее украсить свои хоромины и, случалось, за «кружевное платье» платили древодельцам те же деньги, что и плотникам за возведение сруба. «Кружевной песнью» величал русскую домовую резьбу поэт Сергей Есенин: «Орнамент – это музыка никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, все сердце и разум, как наша древняя Русь».
Железобетонный нахрапистый век начал было хоронить избы, деревянные дома, терема и хоромы, и приступила скорбная пора, когда из душ новоявленных мастеров повыветрилось чувство природной красы, а из рук древодельцев вместе с топором уже выпадало былое мастерство. И уж потянулись к погосту обветшалые срубы – вещие избы, чудные дома, дивные терема и хоромы, украшенные потайной, обережной резьбой, но, слава богу, зажиточный народец из бетона и кирпича поманило в деревянные дома, неразлучные с матерью сырой землёй, и стало возрождаться плотницкое ремесло, а с ним и русское древодельческое искусство домового орнамента, даря крепким избовладельцам утеху взору и оберег душе.
Подле русской сибирской избы явственно чуешь сухой белёсый, протяжный и распевный лад крестьянских будней: вот заголосил бывалый петух, ревниво подхватился молодой, задорный, и, разбуженный певнями зоревый свет с виноватой поспешностью стирает с морщинистых венцов ночную хмурь, увеселяет сруб золотистым теплом; вот в стайке глухо взмыкнула корова, ей подтянула соседская, потом вдоль улицы поплыла рассветная песнь пастушеского рожка; а вот щекастая, розовая со сна, дородная молодуха опустилась по лесенке из сеновала и, смущённо оправляя сарафан и выбирая из волос приставшие сухие былки, счастливо улыбается ночному, любуется утренней синевой, потом, схватив ведра и коромысло, раскачисто плывёт к реке, над которой стелется молочный туман; а вот, напоивши коня, вздымается с яра крутоплечий мужик, при виде молодухи замирает в седле, но не зарясь греховно на бабье обилие, но дивясь чадородной мощи, что сродни хлебородной матушке-земле. И, осенив себя крестным знамением, воскликнет мужик: «Господи, Иисусе Христе, столь благолепны и обильны земля Твоя и люди Твоя… И жить бы нам в ладу и любви, и славить Тебя денно и нощно…»
Но нет, глухо и сонно в музейной деревне, как на погосте, и тишина сия на весь её оставшийся праздный век; деревня – загляденье, да лишь на погляденье, не на жительство.
* * *
И как было утешительно, отрадно, что на Святую Троицу «сибирская деревня» – музей деревянного зодчества «Тальцы», что на сорок седьмом километре Байкальского тракта, – ожила не крикливо-яркими, пугающими «деревню» и окольный березняк, гремящими куртками туристов и чужеземной речью, – нет, избы и подворья ожили вдруг словно взаправду, хотя и не буднично, а празднично.
…Из утреннего тумана выплывает деревянная церковь, и зоревый свет падает на купола, и золочёные кресты сияют в синем поднебесье; звенят заливисто колокола, славословя Святую Троицу. В тёплом и ласковом свете церковная паперть; из храма ликующей цветастой рекой плывёт крестный ход; впереди батюшка с крестом и притч с иконами, поющие:
– Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас…
Вначале подворья замерли, благоговейно и осветлённо вслушиваясь в молитвенное песнопение, – молебен и крестный ход, – безгласно вторя праздничному тропарю: «Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святого и теми уловлей, вселенную. Человеколюбче, слава Тебе». Крестный ход, обойдя деревню, стекает к Ангаре, чтобы освятить её светлые воды.
Но вот утих молебен, вознёсся к отцветающим июньским небесам, и выплыла, словно из славянской стари, наша разнаряженная красными лентами кумушка, берёза-берегиня, без коей Русь, святая и берестяная, Троицу не праздновала. А уж на краю «деревни» залилась гармошка, заиграла для зачина неторопко и распевно, пробуя голос, потом в заливистые переборы вплелась старинная русская песня, которая – даже если с ходу и не разобрал слова – тревожит, бередит сердце предчувствием чего-то неведомого, но до дрожи родного, счастливого, словно после долгой и опасной разлуки увидел отчий дом, мать, отца, сестёр и братьев, по коим изболелось сердце. И вот уже по улице, осиянной нежарким утренним солнышком, под переборы, переливы гармошки прошли в русских платьях те, кто знал и помнил такую деревню вживе, любил её и в добром благе, и в горьком лихолетье, кто дотягивал свой век по сибирским деревушкам. Шли наши старые матери и бабушки…
Таинственны и причудливы славянские праздники, когда, радея в Радуницу, вопленицы от молитвы, плача и причети по усопшим, вдруг с небес опускались наземь и зачинали воспевания земного плодородия и бабьего чадородия под буйные, как вешнее половодье, птичьи пляски, когда очистительно горюнилась, страдала и возносила молитвы ко Христу, а потом живительно ликовала, веселилась русская душа, всякий раз вновь обреталась, крепла, чтобы вновь и вновь дивить мир неразгаданной силой и красой, закрепшей в терпении, любви и мольбе.
В деревне Троица – и посреди чистого двора берёза, украшенная бумажными цветами и лентами. На амбарном приступке сидят три парня, самый кучерявый играет на гармони. Две деревенские девушки с венками на гладко зачёсанных волосах красуются возле берёзы, уряженной жёлтыми, синими, алыми цветами, помахивают берёзовыми ветками и поют семицко-троицкую песню. А народ – окрестные жители, – ино и хлопают в ладоши, похваливая доморощенных артистов. Девушки поют, обходя берёзу-наряжёну:
Девушки трижды обходят наряжёну; являются парни, и курчавый лихо играет на гармони.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Деревенский бунт - Анатолий Байбородин», после закрытия браузера.