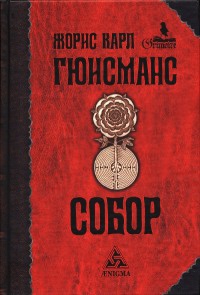Читать книгу "Наоборот - Жорис-Карл Гюисманс"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сосредоточенная, с остановившимся взглядом, — прямо сомнамбула — не замечает она ни Тетрарха (тот вздрагивает), ни кровожадной матушки Иродиады (та не спускает с нее глаз), ни гермафродита или евнуха, что стоит с обнаженным мечом перед троном — страшилище, замотанное до щек; грудь кастрата висит, как бутылочная тыква под расчерченной оранжевым туникой.
Этот тип Саломеи, столь притягательный для художников и поэтов, не первый год уже был наваждением дез Эссэнта. Не раз читал он в старой библии Пьера Варике, в переводе докторов теологии Лувенского университета Евангелие от Матфея, где простодушно и лаконично повествовалось об усекновении главы Иоанна Крестителя; не раз грезил над строчками:
"Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду.
Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.
Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей.
И послал отсечь Иоанну голову в темнице.
И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей".
Но ни св. Матфей, ни св. Марк, ни св. Лука ни прочие евангелисты не обмолвились о безумном очаровании, острой порочности танцовщицы. Она оказывалась стертой, терялась, загадочно-изнемогающая, в далеком тумане веков, неуловимая для буквалистов и приземленных существ, доступная только душам с безуминкой, утонченным и словно ставшим ясновидящими благодаря неврозу; неподвластная изобразителям мяса, вроде Рубенса, превратившего ее во фламандскую телку; непостижимая для всех авторов, не способных передать беспокойную экзальтацию плясуньи, рафинированное величие убийцы.
В картине Гюстава Моро, пренебрегающего всеми данными Завета, дез Эссэнт нашел, наконец, сверхъестественную, странную Саломею своих грез. Она была не просто фигляркой, что вырывает у старца крик желания и течки изощренными выкрутасами поясницы, разбивает энергию, расплавляет волю царя движением грудей, трясом живота, дрожью ляжки — она становилась своего рода божеством-символом нерушимого Сладострастия, бессмертной Истерии, проклятой Красоты, избранной каталепсией, которая свела ей плоть, сделала жесткими мускулы; безразличным, равнодушным, бесчувственным Чудовищем, отравляющим, как античная Елена, все, что приближается, все, что ее видит, все, к чему прикасается.
Постигнутая так, она относилась к теогониям дальнего Востока; больше не выражала библейские традиции, даже не могла быть олицетворением Вавилона, царственной Проституткой Апокалипсиса, обвешанной, как та, побрякушками и пурпуром, как та размалеванной: вещее могущество, высшая сила не ввергли ту в манящие гнусности разврата.
Впрочем, художник, как видно, пожелал остаться за пределами веков, не уточнять происхождение, страну, эпоху, поместив свою Саломею в этот фантастический дворец сбивчивого и грандиозного стиля, разодев ее в пышные химерические платья, водрузив на голову странную диадему в форме финикийской башни, вроде той, что носит Саламбо; наконец, вручив ей скипетр Изиды, священный цветок Египта и Индии — огромный лотос.
Дез Эссэнт вдумывался в смысл этой эмблемы. Обладала ли она фаллическим значением, сообщенным старейшими культами Индии; возвращала ли старику Ироду приношение в жертву девственности, кровь за кровь, нечистую рану, домогаемую и предложенную при строгом условии убийства; или же здесь аллегория плодородия, индусский миф жизни: из женских пальцев вырывают и мнут душу дрожащие руки мужчины, затопленного безумием, сведенного с ума воплем плоти.
Возможно, передавая почитаемый лотос своей загадочной богине, художник подумал о танцовщице, о смертной женщине, о загрязненной Чаше, первопричине всех грехов, всех преступлений; возможно, вспомнил о древнеегипетских ритуалах, о погребальных церемониях бальзамирования, когда химики и жрецы, положив умершую на яшмовую скамью, кривыми иглами извлекают мозг через носовые каналы, а внутренности — через разрез в левой стороне живота; затем, прежде чем позолотить ей ногти и зубы, втереть смолы и эссенции, влагают, чтобы очистить половые органы, целомудренные лепестки божественного цветка.
В любом случае неотразимую магическую силу излучал этот холст, но акварель, названная "Явление", тревожила, пожалуй, больше.
Дворец Ирода взвивался там, точно Альгамбра, на легких колоннах; их всецветные мавританские плитки скреплены словно серебряным бетоном, словно золотым цементом; арабески исходили из лазурных ромбов, изгибались вдоль куполов, где на перламутровой мозаике порхали отсветы радуги, огни призмы.{15}
Убийство свершилось; теперь невозмутимый палач опирался на рукоять длинного окровавленного меча.
Голова святого поднялась с блюда, положенного на плиты; синеватая, с бесцветным открытым ртом, с ярко алой шеей, из которой капала кровь, — смотрела. Мозаика окружала лицо, откуда вырывался ореол, излучаясь стрелами света под портиками, освещая жуткий взлет головы, зажигая стеклянистый шар зрачков, прикованных, чуть ли не приплюснутых к танцовщице.
Жестом испуга неподвижная, стоящая на цыпочках Саломея отталкивает страшное видение, пригвожденная им; зрачки ее расширены, пальцы конвульсивно сжимают горло.
Она почти нагая; в пылу танца вуали сбились, парча спала; ее покрывают лишь золото и светящиеся минералы; горжерен, как латы, стискивает талию, и, словно аграф, изумительный камень излучает блеск из желобка между грудей. Дальше — пояс вокруг бедер скрывает верх ляжек; о них бьется гигантская подвеска, где течет река карбункулов и изумрудов; между горжереном и поясом — выпуклый, оставшийся неприкрытым живот, углубленный пупком, донышко которого своим молочным с розоватостью оттенком ногтя напоминает печать, выгравированную из оникса.
Под огненными стрелами, что выбрасывает голова Предтечи, все грани камешков воспламеняются; они оживают, обрисовывают женское тело раскаленными контурами, жалят в шею, в ноги, в руки вспышками, алыми, как угольки, фиолетовыми, как переливы газа, голубыми, как пламя спирта, белыми, как лучи светила.
Страшная голова пылает, продолжая кровоточить; сгустки темного пурпура образуются на кончике бороды и волос. Видимая для одной Саломеи, она не охватывает своим угрюмым взглядом ни Иродиаду, чьи мечты о мести, наконец, осуществились, ни Тетрарха: чуть склонившись вперед, впившись пальцами в колени, тот еще задыхается, он потрясен женской наготой, пропитанной дикими запахами, извалянной в бальзамах, прокуренной эссенциями и миррой.
Как и старик-царь, дез Эссэнт чувствовал себя раздавленным, уничтоженным, охваченным головокружением перед танцовщицей, менее величественной, менее высокомерной, но волнующей больше, чем Саломея с картины маслом.
В бесчувственной и безжалостной статуе, в невинном и опасном идоле эротизм, ужас бытия человека выступили наружу; большой лотос исчез, богиня испарилась; жуткий кошмар душил теперь гаёршу, ввергнутую в экстаз кружением танца; окаменевшую, загипнотизированную ужасом куртизанку.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Наоборот - Жорис-Карл Гюисманс», после закрытия браузера.