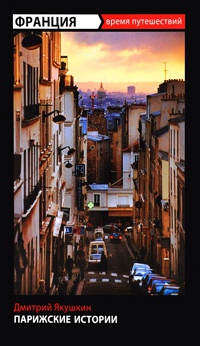Читать книгу "Советская литература: мифы и соблазны - Дмитрий Быков"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
он все-таки не писал.
Смерти в мире Евтушенко нет вообще. В совершенно замечательном стихотворении «Зашумит ли клеверное поле…» (1977) он написал, что умирать как-то даже эгоистично: «…и пойму, что умереть – жестоко / и к себе, и, главное, к другим». Это тоже эгоизм, но эгоизм здоровый, радостный, эгоизм счастливого ребенка, порой глухого к трагедии бытия.
Мир Евтушенко – тоже мир без бога, хотя он и делает попытку умилостивить бога, в сущности, неведомого:
И поэзия Евтушенко – поэзия без бога, но вот что удивительно: в этой его советскости гораздо больше здравого смысла, гуманизма, милосердия, чем в русскости. Евтушенко – поэт позднего Советского Союза. Не того брутального, который устраивал расстрелы и высылки, не того, который устраивал репрессии, даже не того, который выиграл в 1945-м. Это поэзия 1950–1970-х годов, поэзия беззубого, дряхлеющего чудовища, у которого, однако, остаются еще некоторые советские установки: установка на прогресс, установка на труд, установка на идиллические человеческие отношения. Бродский думает о человеке дурно – Евтушенко старается думать хорошо. Потому что для него человек – это гражданин нового общества, это результат прогресса. Евтушенко верит в прогресс, и это тоже позиция чрезвычайно уязвимая, но в этой слабости и уязвимости есть нечто глубоко трогательное и живое. Его отношение и к России, и к женщине бывает разным, но никогда в нем нет остервенения, нет бешенства. Так, в стихотворении «Одной знакомой» (1974) в адресатах довольно отчетливо прочитывается Белла Ахмадулина, но еще отчетливее прочитывается Россия:
Ощущение привязанности, прикандаленности, приарканенности тоской абсолютно чуждо Бродскому, а для Евтушенко органично. Он всю жизнь ощущал себя на поводке, которого не мог порвать. Это позиция унизительна, но и унижение для поэта – хороший лирический трамплин. Из него тоже можно сделать великие стихи. Так в русской поэзии на рубеже 1960–1970-х появилось три великих стихотворения, абсолютно однотипных: «Охота на волков» (1968) Высоцкого, «Монолог голубого песца» (1967) Евтушенко и «Осенний крик ястреба» (1975) Бродского – три аллегории, в которых каждый поэт находит себе какой-то звериный аналог: это одинокий ястреб Бродского, это осажденный, затравленный волк Высоцкого, это прирученный песец Евтушенко, – и все они одинаково трагичны.
Стихотворение Евтушенко не уступает ни шедевру Высоцкого, ни шедевру Бродского. Трагедия героя Евтушенко – это трагедия человека, привязанного к своей клетке. Когда однажды ее забыли закрыть, он «прыгнул в бездну звездную побега» и «понял, взяв луну в поводыри, / что небо не разбито на квадраты, / как мне казалось в клетке изнутри». Но «Дитя неволи – для свободы слаб», и песец возвращается. И этот отказ от бегства – признание не только в недостаточности своих возможностей, не только в недостаточности творческой свободы, но это и признание в роковой привязанности к России:
Вот это ощущение того, что родина тебя неизбежно предаст, а тот, кто тебя любит, окажется твоим убийцей, – ощущение страшное. И находиться на привязи у родины не менее трагично, чем от нее отрываться: куда, в какие высоты залетает ястреб? Бродский сумел оторваться – Евтушенко признается в том, что он оторваться не сумел. И в этом тоже есть замечательная метафизическая высота.
Озирая творческий путь этих двух, казалось бы, друг другу противопоставленных, а стратегически очень сходных авторов, мы замечаем, что такая их ортогональность отчасти снята. Может быть, снята потому, что и советский проект, и «русский мир» пришли к своему закономерному финалу. Тот «русский мир», голосом которого стал Бродский, показал свою полную несостоятельность. Советский проект показал ее тоже. По всей видимости, мы находимся на грани какого-то отчаянного прорыва, чего-то третьего. И может быть, наблюдая эти противопоставленные друг другу фигуры, мы это третье легче найдем.
Феномен Окуджавы: народная песня
Булат Окуджава – поэт, радикально противоположный идее избыточности. Окуджава всегда говорит недостаточно или ровно столько, сколько нужно, чтобы быть понятым. А чаще всего недоговаривает. Недоговаривает там, где советский поэт привык договаривать до конца. И отсюда та мерцающая аура загадки, которая до сих пор окружает его и все, что он сделал.
Я помню, в 1984 году моя однокурсница Таня Дамская однажды сказала мне, что в журнал «Шахматы в СССР», где работал ее отец, известный шахматный комментатор, за гонораром пришел Окуджава. Там были опубликованы несколько его стихотворений и интервью с ним, подготовленное Ильей Мильштейном, но я об этом тогда не знал. Мы с Мильшейном потом приятельствовали, и он рассказал мне об обстоятельствах подготовки этого интервью. В одном из ответов проскочила цитата из Александра Галича. Мильштейн увидел, что Окуджава, вычитывая текст, не убирает цитату, – напоминаю, это 1984 год, – и робко спросил: «Булат Шалвович, но вы вот ЭТО заметили?» Окуджава глянул на него из-под очков и сказал пренебрежительно: «Обижаешь, старик». Цитата прошла каким-то чудом, ее не опознали.
И вот Окуджава пришел за гонораром. Я спрашивал Таню в понятном трепете: «О чем с ним говорили?» – «А ни о чем, – сказала она. – Все улыбались и смотрели. И он улыбался и смотрел. Это минуты три продолжалось, после чего он ушел». – «Но как же?! Ведь его о стольких вещах надо было бы спросить!» И Танька мне сказала: «Ну, вот если бы тебе встретился живой Лермонтов, о чем бы ты его спросил?» И я, задумавшись, понял, что действительно не о чем. Наверное, потому, что, во-первых, масштаб собеседника исключает всяческое вопрошание. Единственное, что здесь можно сделать, это просто сжать челюсти и в ужасе благоговеть. А второе – и это самое, пожалуй, занятное, – что и спрашивать-то вроде бы не о чем, все и так понятно:
Что тут такого? Но почему-то единственный звук этой песни, первая ее строка уже тогда заставляла меня трепетать от абсолютного присутствия чистого искусства. Может быть, только с Новеллой Матвеевой испытывал я нечто подобное. Но у Матвеевой все было сложно, тонко, богато инструментовано – человек умеет играть на гитаре, кроме всего прочего. Что касается Окуджавы, то он – с его тремя или пятью аккордами, с его крайне небогатым словарным запасом, простейшими рифмами и почти отсутствующими сюжетами – поражал каким-то чудом, подобным гидромагнитной ловушке, описанной у Стругацких. У них она называлась «пустышка». На небольшом расстоянии друг от друга расположены две тарелки. Между ними можно просунуть руку, а если есть храбрость, то и голову, но ни свести, ни растащить их невозможно. Вот такой же совершенно неведомый шедевр являет собой Окуджава.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Советская литература: мифы и соблазны - Дмитрий Быков», после закрытия браузера.