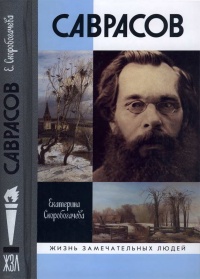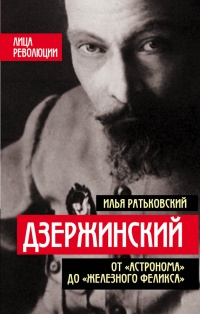Читать книгу "Гранд-отель "Бездна". Биография Франкфуртской школы - Стюарт Джеффрис"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Создается впечатление, что Маркузе мечтал о том, что высокая, двухмерная культура могла бы существовать в форме своего рода полуавтономной республики, ведь она не представляет серьезной угрозы господствующему порядку. В этом смысле Оден был прав: поэзия ничего не изменяет; скорее, она создает воображаемое пространство, где видна истинная цена реальности и где эту реальность можно условно обвинить и условно наказать. Маркузе писал, что высокая культура ниспровергает повседневный опыт, показывая его «в своей неподлинности и увечности»{566}. Но в то же самое время он говорил о том, что эта двухмерная культура, функционирующая как своего рода неофициальная и не представляющая угрозы оппозиция лжи и искажениям действительности, ликвидируется в технологическом обществе. Второе измерение инкорпорируется в господствующий порядок вещей. «Произведения, созданные отчуждением, сами встраиваются в это общество и начинают циркулировать в нем как неотъемлемая часть оснащения, служащего либо украшению, либо психоанализу доминирующего положения вещей. Они выполняют, таким образом, коммерческую задачу, то есть продают, утешают или возбуждают»{567}.
Перед нами культурная индустрия, описанная Хоркхаймером и Адорно, чья роль, как и роль репрессивно десублимированной сексуальности, состоит в обеспечении более плавного хода капитализма. Такая же судьба в одномерном обществе ждет и якобы авангардное политическое искусство: вспомните о судьбе «Махагони» Брехта и Вайля – опере, написанной двумя людьми, не вполне осознававшими, что создаваемое ими произведение станет не катализатором революции, как они надеялись, а всего лишь частью высмеиваемого ими принципа «кулинаризма».
Но что общего между ликвидацией высокой культуры, сексуальностью и сублимацией? Освобождение сексуальности в разрешавших себе многое 1960-х годах стало, по мысли Маркузе, механизмом контроля, сделавшим нас более счастливыми, даже более сексуально удовлетворенными. Однако непременным условием этого большего счастья и сексуального удовлетворения является и более высокая степень конформизма. Первой жертвой этого растущего конформизма становится несчастное сознание, в частности художник, который через несчастье и недовольство мог показать в своих произведениях «репрессивную мощь утвердившегося универсума удовлетворения»{568}. Для Маркузе подавление в развитых индустриальных обществах все еще существовало, однако с сублимацией дело обстояло ровно наоборот: первое требовало от людей встать на колени перед доминирующим порядком; вторая, напротив, нуждалась в определенной степени автономии и понимания. Согласно Маркузе, сублимация стала в утонченном искусстве ценным, хотя и парадоксальным феноменом, «силой, которая, уступая подавлению, одновременно наносит ему удар»{569}.
Но художественной сублимации больше не существует. Чтобы продемонстрировать это, Маркузе сравнил, как художники послевоенной эпохи и их предшественники описывали и инсценировали секс. В «Цветах зла» Бодлера или в «Анне Карениной» Толстого сексуальное удовольствие скорее сублимируется, чем реализуется. Возможно, более удачным примером сублимированной сексуальности является не упомянутое им произведение – «Тристан и Изольда» Вагнера, в котором секс и смерть – Эрос и Танатос – сомкнулись в вечных объятиях. В таких сублимированных произведениях искусства, писал Маркузе, реализация сексуальности оказывается «по ту сторону добра и зла, по ту сторону общественной морали, она оказывается, таким образом, недосягаемой для утвердившегося Принципа Реальности»{570}. Сравните это с тем, как сексуальность отражена в произведениях, созданных в развитом индустриальном обществе, говорит Маркузе. В пример он приводит пьяниц О’Нила, дикарей Фолкнера, «Трамвай “Желание”», «Кошку на раскаленной крыше», «Лолиту» и «все рассказы об оргиях Голливуда и Нью-Йорка и приключениях живущих в пригородах домохозяек». В сексуальности, изображенной в этих последних случаях, Маркузе видит «гораздо меньше ограничений и больше реалистичности и дерзости», чем в ее описаниях из классической или романтической литературы. Она десублимирована, неопосредована, постоянно присутствует в своей банальной недвусмысленности, какой бы малосодержательной и бесстыдной она при этом ни была.
Что было потеряно между двумя эпохами литературы? Отрицание. В первой присутствуют образы, отрицающие представляемые ими общества; во второй – нет. Так, по крайней мере, думал Маркузе. В классической литературе существовали такие персонажи, как проститутки, черти, дураки, бунтующие поэты, – все они подрывали существующий порядок. Но в литературе развитого индустриального общества такие антиномичные персонажи если все еще и существуют (Маркузе перечисляет их: «авантюристка, национальный герой, битник, невротическая жена-домохозяйка, гангстер, кинозвезда, обаятельный магнат»), то выполняют функцию, противоположную их предшественникам: «Теперь они предстают не столько как образы иного способа жизни, сколько как случаи отклонения или типы этой же жизни, служащие скорее утверждению, чем отрицанию существующего порядка»{571}.
Первобытный вопль Стэнли Ковальски в этом смысле сильно отличается от Liebestod[22] из «Тристана и Изольды». На первый можно ответить электродами, тюрьмой или «шлепологической терапией Миннесотского университета»; вторая сопротивляется таким методам коррекции, она продолжает оставаться социальным отрицанием до тех пор, пока полная женщина на сцене не закончит арию. Сексуальное наслаждение в искусстве развитого индустриального общества поэтому «можно назвать диким и бесстыдным, чувственным и возбуждающим или безнравственным – однако именно поэтому оно совершенно безвредно»{572}. «Совершенно безвредно» – странное описание для, скажем, педофилии Гумберта Гумберта, но Маркузе не считал «Лолиту» отрицанием общественных устоев.
Бросается в глаза то, что примеры Маркузе сталкивают старую Европу с новой Америкой, как бы говоря, что культура первой была несчастной и сублимированной, тогда как культура второй – счастлива и десублимирована. Вздохи старой Европы по утраченному пробиваются сквозь пессимистические страницы «Одномерного человека». Высокая европейская культура, вынесшая приговор доиндустриальному обществу, не может быть возвращена{573}. Пессимизм на самом деле ключевая нота этой книги. Перед лицом одномерного общества без вероятного революционного субъекта все, что остается – это Великий Отказ, которому Маркузе дал такое название, позаимствовав этот термин у сюрреалиста Андре Бретона, и который (он признает это), как и великое оппозиционное искусство, политически бесплоден. Он нигде не говорит о том, что значит этот отказ, но интерпретаторы определяют его как отрицание форм угнетения и господства. Этот термин, несмотря на всю его туманность, слабость и непрактичность, выглядит многообещающе: он улавливает бунтарские настроения развитых индустриальных обществ 1960-х, включающие в себя выступления против войны во Вьетнаме, кампанию за ядерное разоружение, новых левых, хиппи и студенческие протесты. Такая оппозиция – «стихийная сила», которая «нарушает правила игры и тем самым разоблачает ее как бесчестную»{574}.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Гранд-отель "Бездна". Биография Франкфуртской школы - Стюарт Джеффрис», после закрытия браузера.