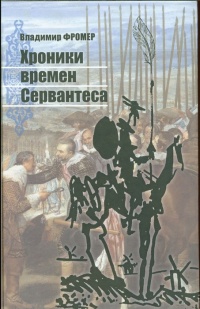Читать книгу "Реальность мифов - Владимир Фромер"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ну, — спрашиваю, — и что же ты ей напишешь?
— А то и напишу, что грань перейдена, только не в ту сторону, — сердито ответил Толя.
* * *
Поэтом-переводчиком он был превосходным. Стихи Лорки, Эрнандеса, Готье, Верлена в его переводах равнозначны подлиннику. Якобсон изумительно чувствовал взаимосвязи между звуковым обликом и тематикой, между пульсирующим движением стиха и смыслом и воспроизводил их с блистательной виртуозностью. Он находил точные языковые эквиваленты для передачи тончайших особенностей оригинала: тональности, регистра речи, образности, ритма, колорита и т. д.
Как-то рассказал я ему, как искал Апта — великолепного переводчика европейской прозы. Дело в том, что роман Томаса Манна «Иосиф и его братья» поразил меня не только сам по себе, но еще и мастерством перевода.
Апт добился настоящего чуда. Воссоздал до мельчайших деталей величественный собор Манна, используя совсем иной строительный материал. Вот я и решил, что тот, кто так владеет языковыми ресурсами, обязательно должен сам творить. Занялся поисками — и нашел аптовское оригинальное «творение». В библиотеке Иерусалимского университета оказалась его книжка «Жизнь и творчество Томаса Манна». Уже одно название не сулило ничего хорошего. Так и оказалось. Я открыл ее — и похолодел. Мертвые слова не давали ни малейшего понятия об истинных возможностях этого человека.
— Да, — сказал Толя, — есть люди, которые могут творить, лишь когда ими руководит чужая воля, помноженная на талант и воображение. А я в поэзии — чем не Апт? Ты, например, в восторге от моих переводов. И не только ты. А вот собственного поэтического голоса у меня нет. Хорошо хоть, что это не главное занятие в моей жизни…
В Израиле Якобсон только один раз вернулся к любимой когда-то работе. По моему подстрочнику перевел он стихотворение Мицкевича «К русским друзьям». И как перевел!
С риском быть обвиненным в тщеславии, отмечу, что эта Толина работа посвящена мне. На переводах посвящение не ставится. Это — невидимый орден. Носить нельзя, а гордиться можно.
К РУССКИМ ДРУЗЬЯМ
Вы — помните ль меня? Когда о братьях кровных, Тех, чей удел — погост, изгнанье и темница, Скорблю — тогда в моих видениях укромных, В родимой череде встают и ваши лица.Тут опять не избежать отступления.
Якобсон не был пушкинистом. Сфера его литературоведческих интересов ограничивалась двадцатым веком. Но любовь к Пушкину — та самая лакмусовая бумажка, по которой безошибочно узнаешь российского интеллигента, — была у него в крови.
Все пушкинское знал превосходно. Читал его всю жизнь, говорил, что никогда не надоедает. Однажды я пожаловался, что не могу разгадать цензурную загадку в стихотворении «П. Б. Мансурову».
Павел Мансуров, приятель Пушкина еще с лицейских времен, офицер конноегерского полка, был влюблен в воспитанницу школы благородных девиц Крылову. Строгие нравы этого заведения препятствовали интимной близости, и Пушкин утешает приятеля:
— Толя, — говорю, — не могу найти выброшенного цензурой слова. Что раздвинет? Тут какое-то ритмическое прокрустово ложе. Мое скудное воображение бессильно.
— Ты не там ищешь, — засмеялся Якобсон. — Не что, а чем. Цензура выбросила невиннейшее слово «пальчиком», потому что оно придавало концовке стихотворного послания совсем уж неприличный смысл.
Наши литературные разговоры часто шли по пушкинской орбите.
Меня же тогда интересовали сложные отношения Пушкина с Мицкевичем. Я даже написал довольно обширную работу на эту тему, затерявшуюся в кутерьме и неустроенности последующей моей жизни. А жаль, потому что запечатлелся в ней отголосок тогдашних наших бесед. После стольких лет я могу лишь весьма отдалено восстановить их содержание и тональность: дружба двух великих славянских поэтов — сказочка, придуманная советскими литературоведами.
Пушкин ставил Мицкевича как поэта выше себя, восхищался его импровизаторским даром. Импровизатор не творит, а растворяется в неземной силе, говорящей его устами, что воспринималось Пушкиным как высшая и чистейшая форма поэзии.
Но к 1828 году, на который выпадает их основное общение, Пушкин еще не распрощался с безумствами своей юности, цеплялся за нее — уходящую. Его тяготила нравственная безупречность Мицкевича, его мрачная духовная мощь. В польском поэте было что-то от пророка, а пророки мрачны, ибо души их улавливают из будущего тревожные импульсы.
Импровизатору в «Египетских ночах» Пушкин придал черты Мицкевича — и какой же он там неприятный. К тому же Мицкевич, всецело поглощенный национальной идеей, отличался особой цельностью, основанной на единой внутренней системе виденья. Пушкину подобная цельность была чужда. В его светлом даровании, настежь распахнутом перед многоголосием мира, нет ничего пророческого. И если Мицкевич — воплощение эпичности, то Пушкин — гармонии. Сфера первого — мысль. Сфера второго — чувство.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Реальность мифов - Владимир Фромер», после закрытия браузера.