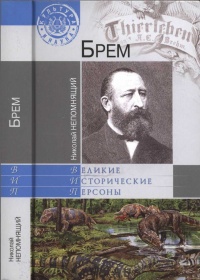Читать книгу "Катарина, павлин и иезуит - Драго Янчар"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Симон Ловренц засунул за пояс нож, тот самый, из сумки, который был предназначен не для того, чтобы резать хлеб, неторопливо обошел церковь с настенной росписью, где был ангел с мечом, неразделимые земной и небесный миры, он шел вниз по склону, к озеру, к корчме на берегу, звон колокола поплыл над темной утренней гладью, вознесся в купол неба над ней, зазвучал над скалистыми горами вокруг нее, разбудил озеро с его крикливыми чайками, разбудил поле и лес, где раздалось карканье ворон. И взметнулся ввысь, в хрустальную тишину, туда, откуда на снег, лежащий под облачным небом, сквозь само небо лился поток яркого света.
Виндиш проснулся. Что-то разбудило его, скорее всего, колокольный звон, доносившийся из сельской церкви. Он подумал, что надо вставать, но при одной мысли о том, что ему придется умываться и смотреть на себя в зеркало, желание вставать пропало. Он лежал на кровати, уставившись в потолок. Каждое утро он смотрел в потолок, каждое утро ему становилось страшно при мысли о собственной тяжкой и безжалостной судьбе. Раньше он никогда не размышлял об этом, но с тех пор как пережил битву при Лейтене, каждое утро размышлял о том, что его судьба очень тяжела, бессмысленна и непредсказуема. – Сегодня, – думал он, – сегодня гарцуешь в фетровой шляпе и с серебряной рукояткой пистолета за поясом, сегодня под грохот барабанов едешь на коне по городу, красивый, вызывающий восхищение, горожанки улыбаются тебе, сегодня все от тебя в восторге и любят тебя, а завтра, проклятое завтра, которое до конца твоих дней останется твоим единственным сегодня, завтра ты лишишься половины лица и уже никогда не захочешь смотреть на себя в зеркало. И вино уже не помогает, вино по утрам бередит твои раны, по всему телу болью расползается сознание того, что ты – это уже не ты, а кто-то другой, не имеющий ничего общего со знатным господином, капитаном Францем Генрихом Виндишем. Тот, кто лишился уха и глаза, у кого раздроблена лицевая кость и оторвана часть щеки, – такой человек больше не думает о почестях и славе. О медалях и процессиях, о приеме в люблянском правительственном дворце и тем более – о бале при венском императорском дворе. Он уже больше не мечтает о том, как когда-нибудь преклонит колено перед пресветлой императрицей Марией Терезией и она преподнесет в дар храброму капитану, который тогда, может быть, станет полковником, наследственные права на какое-нибудь поместье в Крайне. Теперь он был одиноким и убогим и не решался посмотреть на себя в зеркало. Почести и слава, даже если они и придут к нему, никогда не вернут ему уха, не выпрямят лицевую кость, ни одна медаль не вернет ему глаз, его императрица – не такой умелый хирург, чтобы возвратить красивое лицо, которым любовалось столько женщин. И полковником он тоже не будет, теперь слишком поздно мечтать об этом, такой, каким он сейчас стал, никогда больше не поведет в бой ни одну роту. Может быть, он получит несколько коров – их дают раненым офицерам, чтобы они могли обеспечить себе пропитание. Виндиш готов был смеяться и плакать одновременно: он получит несколько коров, а не медаль, не парады, не имения. И к тому же будет большим счастьем, если его, такого, каким он стал, вообще захочет видеть его дядюшка, барон Виндиш. Почести и слава были подобны туману, клубившемуся над озером, а реальностью был кусок оконного стекла, в которое он даже не хотел посмотреть, чтобы не увидеть в нем отражение урода с растерзанным и перевязанным лицом, урода, который когда-то был им, Францем Генрихом Виндишем. Если бы он подошел к окну, если бы он его отворил, он увидел бы, что к дому приближается одинокий путник, он вышел из леса и на мгновение остановился на опушке, потом неторопливо пошел дальше, из-за пояса у него торчит рукоятка кинжала, олень, который когда-то был валухом, отправляется на поиски валуха, который когда-то был оленем.
Виндиш подумал, как было бы хорошо, если бы рядом был кто-то, кто не связан с армией, кто не ранен в бою, как ранен он сам, кто-то, кого не покинули так, как все покинули его в этом заброшенном крестьянском доме на берегу озера. Он не захотел остаться в лазарете, не хотел слушать стоны, видеть оторванные руки и ноги, ему хотелось выпутаться из этого самому. А теперь он желал, чтобы рядом был кто-то, кто пожалел бы его. Он подумал о Катарине, дочери Полянеца, которая сейчас, вероятно, преклоняет колена в какой-нибудь церкви. Пожалуй, было бы хорошо, если бы рядом была Катарина, ведь он воспитал из нее очень удобную спутницу, так что постепенно даже полюбил ее. Хотя все это время, проведенное с ним, она чувствовала себя офицерской шлюхой, каковой, по сути дела, и была. Он превратил набожную паломницу в женщину, вполне подходящую для постели, кухни и развлечений, но по ночам она часто плакала, потому что перестала быть набожной паломницей, а превратилась в то, во что превратилась, и потому, что с ней больше не было этого ее ученого монашка, который сейчас мерзнет от холода и заживо гниет в ландсхугской тюрьме, бормоча себе под нос свои молитвы и поучения. На мгновение ему пришло в голову, что тот прусский снаряд, который разорвался перед ним, прямо под ногами его прекрасного и несчастного вороного коня, и который в клочья разнес кишки из его округлого брюха, его широкую грудь и разорвал его сильные ноги, что этот снаряд, возможно, был карой, ниспосланной ему одним из тех ангелов, которые, скорее всего, путешествовали вместе с паломниками, над ними, набожными людьми, – наказанием за то, что он сделал с Катариной и ее ученым монахом. Это пришло ему в голову только на мгновение, он вспомнил, что, в конце концов, она сама ему отдалась, она с давних пор им восхищалась, с тех пор, как он приезжал в добравскую усадьбу, поэтому она и легла с ним, и в его постели ей было совсем неплохо. А иезуита следовало убрать с дороги. Разумеется, эта женщина могла бы теперь помолиться за него, могла бы замолвить за него словечко перед этой их Золотой ракой или аахенскими пеленками. Может быть, и ему самому следует помолиться, наверное, он еще помнит какую-нибудь молитву. Только вот о чем молиться? Когда он был в церкви со своими солдатами, когда их перед уходом на войну или перед битвой благословлял полковой священник или какой-нибудь епископ, оказавшийся под рукой, он просил у небес победы, воинских почестей и славы, победоносного возвращения. А о чем ему молиться сейчас? Что это ему даст, что может вернуть ему красивое лицо, зрение и слух? Разве у него появится новый глаз и новое ухо? И все-таки он внезапно опустился на колени: Пресвятая Богородица, помоги человеку, который пал и хочет подняться. Святой Христофор, покровитель странствующих и защитник нашего полка, помоги мне… в чем он должен ему помочь? Дальше у него не получилось. Здесь не могли помочь ни почести, ни слава, ни молитва, ни проклятие. Капитан Виндиш снова обхватил руками свое лицо – ту часть лица, которая у него сохранилась, – и, стоя на коленях возле постели, зарыдал. Отчаянно и без слез.
Тихим ноябрьским утром олень вышел из лесу, остановился на опушке и направился по лугу к ограде. Симон Ловренц с ледяным лицом подошел к дому, в котором находился тот, кто уничтожил все, что он однажды имел в жизни. К дому, где был тот самый искуситель, соблазнитель и сводник; наверное, он много раз видел поутру, как Катарина сидит на корточках, обнаженная, и раздувает угли в погасшем за ночь очаге, видит ее такой, какой лишь однажды, в одно счастливое утро своей жизни, видел он сам. Он пытался вспомнить, как выглядит красивое лицо Виндиша под павлиньей шляпой, его полное тело, перепоясанное яркими шелковыми лентами, он видел его таким, каким увидел его когда-то давно недалеко от Беляка в Каринтии, возле какого-то моста через неизвестную речку, где он въехал в его жизнь на вороном коне, на котором сидел, гордо выпрямившись; ноги в шелковых подвязках были плотно прижаты к широким бокам вороного коня, в то время как он, Симон Ловренц, стоял в мокрой высокой траве и слушал его полные слепого бешенства, бессмысленные крики. Именно тогда он появился на его жизненном пути, и Симон Ловренц ни минуты не сомневался, что эта встреча была знамением, которое определило ход его жизни, хотя сам он в то время этого не знал, не мог знать, пока пред воротами доминиканского монастыря не получил удара по голове, кляпа в рот и цепей на ноги. И теперь, теперь помимо всего прочего он знал, что, когда его пинали и избивали, как бродячего бешеного пса, когда он, связанный, просил воды, всего один глоток воды, тогда этот козел, этот павлин, этот красивый и подлый капитан своими волосатыми руками раздвигал Катаринины ноги и проникал в нее, в половое отверстие, в липкое отверстие, открывающее дорогу в ад, ложился на нее своим огромным животом, обдавал ее своим пьяным дыханием, в это утро и много раз потом смотрел, как она раздувает угли, чтобы сам он мог встать в уже согревшейся комнате, и что Катарина могла, должна была умывать его после пьянки и вдыхать запах его утреннего пота. Женщину, с которой он хотел дойти до высшей ступени познания, ту, которая была чище и милее всех, которая в прежние времена краснела от одного его взгляда, все это он, капитан, мешок с мясом и вином, липкой слизью и человеческим смрадом, все это он втоптал в грязь, все это присвоил себе, даже ее душу. Осталась одна похоть, пять пальцев из притчи о похоти, распутный взгляд, потное прикосновение, грязь, способная запачкать даже чистое сердце, слюнявые поцелуи, смердящий грех разврата. Виндиш, похотливое животное, воплощение дьявола, вверь свое сердце, – сказал он, – капитан Виндиш, вверь свою душу Всемогущему Богу.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Катарина, павлин и иезуит - Драго Янчар», после закрытия браузера.