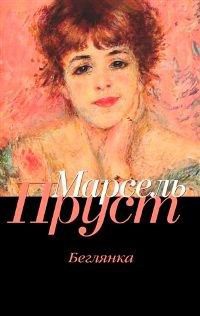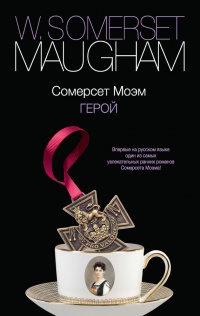Читать книгу "Особняк - Уильям Фолкнер"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но потом Чарльз подумал, что разумнее всего, логичнее всего сделать то, что сделал бы каждый на его месте: спросить самого Рэтлифа — что он понял, или что ему показалось, или чего он боялся, — а вдруг ему так покажется? Так он и сделал. Уже было лето, июнь: у Маккинли не только созревал хлопок — Эсси ждала ребенка. Весь город это знал — она заявила об этом во всеуслышание однажды утром, как только отворились двери банка я первые вкладчики стали в очередь. Так что через два месяца они с Маккинли получили приз — кресло на колесиках, где сиживал старик Медоуфилл.
— Потому что Линде этого мало, — сказал Рэтлиф.
— Чего мало? — спросил Чарльз.
— Мало, чтобы занять ее время, чтоб она была довольна. Корабли больше строить не надо, а теперь и цветной люд без нее обходится. У нас тут сейчас мир и хорошая жизнь, а ради этого мира, этой хорошей жизни мы, старики, вроде меня и твоего дядюшки, целых четыре года отказывались от сахара, от бифштексов, от сигарет, лишь бы вам, молодым, все было, пока вы там за нас воевали. Жизнь сейчас хорошая, так что даже угнетенные коммунисты — наш сапожник и слесарь, — даже негритянские ребята без нее обходятся, без Линды. А, по-моему, спроси она их раньше, так выяснилось бы, что она им, в сущности, не очень-то и раньше была нужна, только у них долларов и центов не хватало, чтобы об этом сказать. А теперь хватает. — Он подмигнул Чарльзу. — Ей теперь и бороться не с чем — кончилась несправедливость.
— А я не знал, что так бывает, — сказал Чарльз.
— Бывает, — сказал Рэтлиф. — Так что теперь ей придется чего-нибудь поискать, а может, и самой придумать.
— Хорошо, — сказал Чарльз. — Предположим. Но если у нее хватило сил выдержать то, что мы тут напридумывали, так неужто ей не выдержать то, что она сама придумает?
— Да я о ней не беспокоюсь, — сказал Рэтлиф. — Она молодец. Только опасная она. Я о твоем дяде думаю.
— А он тут при чем? — сказал Чарльз.
— Ежели она что-нибудь выдумает и его попросит, он ее, наверно, послушается, — сказал Рэтлиф.
В то утро они встретились в почтовой конторе, как часто встречались и раньше, не сговариваясь, в час прихода утренней почты; на ней была обычная ее одежда, то, что она носила в бесконечных своих прогулках по окрестностям, — дорогие английские башмаки на толстой подошве, поношенные и поцарапанные, но с утра всегда тщательно вычищенные, шерстяные чулки или носки, старые фланелевые брюки или юбка, а иногда что-то вроде защитного комбинезона под старым мужским макинтошем, — так она одевалась осенью, зимой и весной, а летом — полотняное платье, юбка или брюки, и волосы с единственной белой, как перо, прядью, непокрыты в любую погоду. Потом они обычно вместе заходили в кафе при гостинице «Холстон-Хаус» выпить кофе, но на этот раз Стивенс взял у нее блокнотик, который он ей подарил восемь лет назад — слоновая кость с золотыми уголками, — и написал:
«На консультацию ко мне, зачем?»
— А разве клиенты не ходят к юристам на консультацию? — сказала она.
На это ему, конечно, следовало бы ответить: «Значит, я тебе понадобился в качестве юриста?» — и если бы они оба могли разговаривать нормально, он так и сказал бы, потому что в пятьдесят с лишним лет разговаривать не затруднительно. Но писать всегда затруднительно, в любом возрасте, так что даже юрист не тратит лишних слов, если их надо писать пером или карандашом. И он написал: «Вечером после ужина у тебя дома».
— Нет, — сказала она.
Он написал: «Почему?»
— Ваша жена приревнует. Не хочу огорчать Милли.
На это он, конечно, ответил бы: «Приревнует, Мелисандра? Меня к тебе? После всего, после стольких лет?» Но писать все это на крошечной табличке слоновой кости два на три дюйма было слишком долго. И он уже начал писать: «Чепуха», — но сразу стер это слово большим пальцем. Потому что он встретился с ней глазами и все понял. Он написал: «Тебе хочется, чтоб она ревновала?»
— Она ваша жена, — сказала Линда. — Она вас любит. Она должна вас ревновать. — Он еще не успел стереть фразу, и ему надо было только поднять блокнот и повернуть к ней, чтобы она еще раз прочла ее. — Да, — сказала она. — Ревность, тоже часть любви. Я хочу, чтобы у вас было и это. Хочу, чтобы у вас было все. Хочу видеть вас счастливым.
— А я счастлив, — сказал он. Он взял нераспечатанный конверт, только что вынутый из абонементного ящика, и написал на обороте: «Я счастлив, мне была дана возможность безнаказанно вмешиваться в дела других людей, не принося им зла, я по призванию принадлежу к тем, кому заранее отпущены грехи, оттого что им справедливость дороже истины, и мне не дано было своим прикосновением погубить то, что я любил. Теперь скажи, в чем дело, или мне прийти к тебе домой после ужина?»
— Хорошо, — сказала она, — приходите после ужина.
Сначала богатство его жены было сложной проблемой. Если бы не нервное напряжение, вызванное войной, то напряжение, вызванное внезапно нахлынувшими деньгами, хоть и менее значительное, могло бы стать серьезной помехой. Даже сейчас, четыре года спустя, Мелисандре все еще было трудно привыкнуть к отношению Гэвина: в теплые летние вечера, когда негр-дворецкий и одна из горничных накрывали на стол на маленькой боковой веранде, увитой глицинией, каждый раз как приходили туда гости, даже если эти гости или гость уже раньше тут ужинали, Мелисандра обязательно говорила: «В столовой, конечно, прохладнее (столовая после перестройки дома была чуть поменьше баскетбольной площадки), и жуки не летают. Но Гэвину наша столовая действует на нервы». И Гэвин каждый раз, как и раньше, даже при тех же гостях или госте, повторял: «Глупости, Милли, ничто мне на нервы не действует. Это у меня врожденное». И теперь они ужинали на маленькой террасе — сандвичи и чай со льдом. Она сказала:
— Почему же ты не позвал ее сюда? — Он продолжал есть, и она сказала: — Понимаю, конечно, ты ее звал. — Но он все продолжал есть, и тогда она сказала: — Значит, что-нибудь серьезное. — А потом сказала: — Но это не может быть что-то очень серьезное, иначе она не стала бы ждать, она сразу рассказала бы тебе там же, на почте. — И потом опять сказала: — А как ты думаешь, в чем дело? — И тут он вытер рот, бросил, вставая, салфетку, обошел стол, наклонился и поцеловал ее.
— Я тебя люблю, — сказал он. — Да. Нет. Не знаю. Ложись спать, не дожидайся меня.
Мелисандра подарила ему к свадьбе спортивный «кадиллак»; было это в первый год войны, и одному богу известно, где она достала новый открытый «кадиллак» и сколько за него заплатила. «А может быть, он тебе вовсе и не нужен», — сказала она. «Нужен, — сказал он, — всю жизнь мечтал о спортивном „кадиллаке“, лишь бы можно с ним делать все, что захочется». — «Конечно, можно, — сказала она, — он твой».
Тогда он поехал на этой машине в город и договорился с владельцем гаража, чтобы ее там держали за десять долларов в месяц, потом снял аккумулятор, радиоприемник, шины и запасное колесо, продал их, отнес ключи и квитанцию от продажи в банк Сноупса и заложил там машину, взяв самую большую ссуду, какую мог с них получить. К этому времени прогресс, промышленное возрождение и обновление дошли даже до провинциальных банков штата Миссисипи, так что в банке у Сноупса теперь работал профессиональный кассир или оперативный вице-президент банка, импортированный из Мемфиса полгода назад, чтобы придать банку современный лоск, то есть чтобы этот провинциальный банк довести до того образа мысли, когда автомобиль воспринимается не только как определенная неотъемлемая часть культуры, но и как экономический фактор, а раньше Сноупс — и Стивенс это знал — не дал бы под заклад автомашины ни одного цента ссуды даже самому господу богу. Правда, Стивенс мог получить ссуду от импортного вице-президента просто под расписку, не только по вышеупомянутым причинам, но и потому, что вице-президент был приезжий, а Стивенс принадлежал к одному из трех старейших семейств штата, так что вице-президент не посмел бы сказать ему «нет». Но Стивенс поступил иначе, ему хотелось, чтобы, как говорит пословица, этого младенца нянчил сам Сноупс. Он подстерег, подкараулил, загнал в угол самого Сноупса, причем на глазах у всех, в зале банка, где в это время собрался не только весь штат, но и постоянные клиенты, и подробно объяснил ему, почему он, Стивенс, не желает продавать свадебный подарок жены, но, пока страна воюет, он просто хочет обратить его в военные займы. И ссуда была выдана, ключи от машины переданы банку и закладная оформлена, хотя Стивенс, естественно, и не собирался ее выкупать, причем банк платил и те десять долларов за хранение машины в гараже, и они должны были накапливаться до тех пор, пока Сноупс вдруг не сообразит, что его банк является владельцем новехонького «кадиллака», правда, сильно устарелой марки, и притом без шин и аккумулятора. Но все же дверцы его старенькой машины, купленной шесть лет назад (именно в ней он ездил венчаться), перед ним распахивал забегавший вперед дворецкий, который ждал, пока он выедет на длинную аллею, всю окаймленную розами, вьющимися по белым дощатым загородкам бывшего выгона, где когда-то, в неге и ходе, паслись дорогие кровные рысаки. Теперь их не держали, потому что в поместье не было ни одного человека, который стал бы ездить верхом бесплатно; сам Стивенс не любил лошадей, даже больше, чем собак, считая, что лошадь безоговорочно заслуживает большего презрения, чем собака, потому что хотя и те и другие паразиты, но у собаки, по крайней мере, хватает такта быть подхалимом; она хоть ласкается к тебе, возбуждая здоровый стыд за род человеческий. Но истинная причина коренилась в том, что хотя и лошадь и собака ничего не забывают, но собака тебе все прощает, а лошадь — нет: он, Стивенс, всегда считал, что миру не хватает умения прощать; если в тебе есть настоящая чуткость и порывистая непосредственная способность искренне прощать, то уже не имеет значения, есть ли у тебя знания, помнишь ли ты что-нибудь или нет.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Особняк - Уильям Фолкнер», после закрытия браузера.