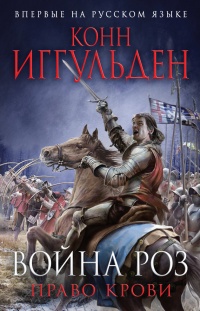Читать книгу "Хольмгард - Владимир Романовский"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ты когда вернулась?
— Да вот давеча. Смотрю — никого нету дома. Тебя вот нету. А она лежит беспамятная в спальне. И бормочет. Жалко мне ее стало. Пойдем, говорю, хозяйка Певунья, я тебе баню насобачу, помою тебя да попарю.
— И она с тобою пошла?
— Пошла. А как я ее отмыла, так стали у нее очи ее засветленные проясниваться. И говорит — еще поддай. Потом я ее вывела на двор. Раздышалась да расходилась она животом да грудями, и обратно в баню. И говорит — не спится ей. А как не спится, так ведь баня-то первейшее дело. Самое честное.
— Так она как прежде теперь стала?
— А?
— Не говорит больше непонятных слов?
— Ну что ты. Все понятно говорит. Я тебя, говорит, Сушка, выгоню скоро к лешему, ежели с хозяином миловаться будешь. И все по-старому. Хлопнула меня по уху. И велит тереть и нежить.
— И ничего не помнит, что с нею было?
— Стало быть, ничего. А что было?
Певунья, как кончился пар, сама затушила печь, сама вытерлась, сама вернулась в дом, рубаху чистую надела и присоединилась к мужу и служанке в столовой. Тиун помалкивал, сохраняя спокойный общественной значимости вид, а служанка, возбужденная свиром, рассказывала о своих приключениях, очень ее впечатливших, и Певунья вдруг заинтересовалась и начала задавать вопросы, чего раньше, да еще при муже, не сделала бы. И в конце концов, после третьей кружки свира (раньше Певунья не позволила бы холопке пить при хозяевах свир), поведала служанка Сушка самое интересное. Однажды ночью, уже после того, как выгнали ее из дома тати за глупость (растапливала Сушка печь к ужину, а рядом береста валялась на сундуке, а Сушка привыкла, что когда береста возле печи лежит, то ненужная она, использованная, только в топку и годится, и сожгла свиток — а на нем, на свитке, и писаний никаких не было, а только каракули какие-то кривоватые, и крестик, и стрелы нарисованы, и осерчали тати, и между собою перебодавшись ее, Сушку, пинками за ворота выставили) — сидела она безутешная у какого-то забора, под луной, а вдруг из дома возьми да выйди какой-то болярин росту большого, в плечах широк, одежда на нем богатая, а у бедра сверд привешен. И спрашивает он Сушку какие-то странности, мол, нравится ли ей отдаваться причитаниям под ночным метилом, и говорит, пойдем со мною, диво атласное.
— Диво атласное? — переспросила Певунья.
Тиуна Паклю все больше настораживала эта пытливость жены. Оракула нет, есть Певунья, но какая-то она другая, новая, Певунья эта. Привыкший иметь дело с истцами, пытающимися придать речи своей подобие высокородной витиеватости, расшифровал он равнодушным тоном:
— Дева ясная. Предаваться мечтам под луной.
— Ага! — обрадовалась Певунья, и снова к Сушке повернулась, — Ну, ну?
Вот Сушка возьми да и пойди с ним. А привел он ее в дом какой-то соломенной вдовы, бывшей сожительницы одного из проклятых варангов, ушедших давеча, и заплатил хозяйке, и остались они в доме том почти до утра, но еще светать не начало, как ушел куда-то болярин, одевшись тщательно. А утром проснулась Сушка, а хозяйка безутешная плачет, не могу, говорит, без него, ненаглядного моего Тигве, поеду за ним к ковшам мерзким, может возьмет он меня к себе. Сушка ее пыталась и так и эдак отговорить, а хозяйка не слушает, что и делать, говорит, беременная я, кто меня возьмет теперь. К полудню приоделась, суму через плечо перекинула, и пошла на пристань договариваться с купцами, что в Киев едут, да и не вернулась. Сушка дом весь почистила, помыла, нашла в кладовой косу да грабли, палисадник прибрала. Нашла в погребе еду всякую, обед богатый приготовила, жалко ей хозяйку, сидит и плачет. А к вечеру, вот не ждали, болярин давешний пришел. Посмотрел хитро по сторонам, в сад вышел, почему-то засмеялся, похвалил Сушку, и стали они вдвоем ужинать. Потом ласкал он Сушку долго, голубил на ложе, и как-то спокойно и уютно Сушке сделалось, а он вдруг и говорит, ты, мол, Сушка, приятна мне и ежели так дальше будет, то женюсь я на тебе. А Сушка ему — что ты, что ты, болярин, разве такие как ты женятся на мне горемычной? А он засмеялся и говорит, ставителю рода всякое к лицу, и ты, Сушка, тоже, значит, к лицу. И вот как съезжу я в город глухой дальний, а там родственник обещал награду, так и женюсь на тебе, и поедем мы с тобою, Сушка, по всему свету. А Сушка ему — зачем же ехать, ежели и дома хорошо и приглядно? А он ей на это — на чудеса разные заглядываться, да везде чтобы радовалась душа, непременно, без этого никак. Все повидаем, говорит.
— А что именно он с тобою повидать хотел, не говорил? Куда ехать-то сперва намеревался? — допытывалась Певунья (а тиун смотрел на нее странно).
— Говорил. Всего и не упомнишь. За морями, говорит, сидит кот большой, или не кот, а с лицом человека, и огромный, будто четыре дома один на другой поставили и удерживают. Из камня огромного кот. А кругом избы огромные с острыми верхами. А еще дальше, за другим морем, там какие-то хвиники растут, а люди по городу ходят совсем голые, и круглая чаша с окнами, очень большая, туда по тысяче человек заходит, и церкви до небес. И к грекам, говорил, поедем, но тут Сушка не выдержала, заплакала. Каменный кот да чаша с окнами и голыми людьми — это еще ничего, можно вытерпеть, но вот уж к грекам — нет уж, не бывать этому. Еще чего. А как ушел болярин до рассвета, так Сушка оделась потихоньку да и сбежала. Лучше холопкой горькой, чем к грекам.
— Дура ты, Сушка, — сказала Певунья, смеясь. — Раз в жизни выпадает дурам счастье, но дуры не замечают.
— Да какое же счастье, кормилица, с греками жить?
— Да, — согласилась Певунья. — С новгородцами счастья-то поболе будет. Особливо зимой, как ставни-двери позапираем, щели мхом да смолой законопатим, печь затопим, и будем у печи в пряжу да тряпки замотавшись сидеть, зубами стучать — вот и счастье.
Тиун снова промолчал. Певунья была — похожа на прежнюю, а все-таки что-то в ней было новое, непонятное, может быть опасное. И смотреть по-другому стала, насмешливо. Ну, авось ничего, пообвыкнется.
* * *
Дир подогнал лодку к берегу и велел Ротко вылезти в воду и вытащить судно на сухую землю до половины.
— Я не смогу. Я не такой сильный, как ты, — возразил Ротко. — Ты вон какой бык. А у меня телосложение артистическое.
Диру надоели выходки зодчего, отдаленно напоминающие выходки Гостемила. Одно дело Гостемил, представитель древнего вельможного рода, а другое — холоп, который, видите ли, не холоп, а военачальник смолильщиков.
— А я вот твое артистическое сложение сейчас в узел завяжу, — сказал он.
— Ты мне не грози, — возмутился Ротко.
— Не кричите вы так, — благоразумно вмешалась Минерва писклявым голосом.
— А чего он грозится? — пожаловался Ротко. — Я не холоп его!
— Ага, — сказал Дир многозначительно.
— И вообще непонятно, куда мы все время спешим и от кого прячемся, — заявил Ротко. — Ну его! Я вот сойду сейчас и пойду себе в город. Найду жилье, заработок, и буду ждать князя.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Хольмгард - Владимир Романовский», после закрытия браузера.