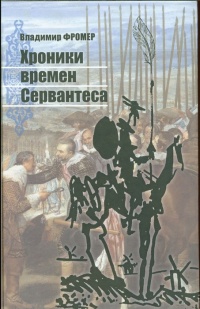Читать книгу "Реальность мифов - Владимир Фромер"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
К этому я бы добавил, что мемуары вообще ущербный жанр, ибо человеку свойственно преувеличивать свою роль не только в жизни других людей, но и в мироздании.
Мои же воспоминания об Анатолии Якобсоне — не связные. Это субъективные заметки, писавшиеся в разные годы с единственной целью продолжить общение с ним, прервавшееся так внезапно из-за его преждевременной смерти…
Жалею, что не записывал его импровизаций. Лишь обрывки чего-то наплывут вдруг со дна памяти — и исчезнут, — как те огненные буквы, начертанные на стене невидимой рукой.
Толины дневники, опубликованные через десять лет после его смерти, оживили то, что укрыто в потаенных нишах памяти. Лишь тогда смутные обрывки стали более четкими и обрели хоть и расплывчатые, но все же устойчивые контуры.
* * *
Он был воспитан на русской литературе. Любил ее до полного самозабвения. Весь строй его души был сформирован ею. Но литература была для него не абстрактным понятием, а тем, чем является для растений чернозем, пропитанный влагой и питательными солями. Она включала весь окружающий мир, и, вырванный из него, утративший точку опоры, он шел уже не прежней твердой походкой, а прерывистой и неровной, как Агасфер, гонимый непреодолимой силой. В том повинен презираемый им режим, лишивший его единственно возможной для него среды…
Он принадлежал к поколению, сформировавшемуся уже после сталинского «ледникового» периода и сумевшему избавиться и от гнета страха, и от равнодушия к творящимся вокруг мерзостям. Далось это нелегко и не сразу, и не все избавились. Но точка отсчета идет от лучших, а не от худших.
Общаться с ним было легко, ибо он никогда не злоупотреблял своим интеллектуальным превосходством. Даже люди, страдающие от душевной скудости или непоправимо обойденные жизнью, соприкасаясь с ним, забывали о своих комплексах. И хоть жил он на запредельных скоростях, ему до конца хватило взятого в России разгона. До конца сохранил он и способность интуитивно-безошибочного постижения сути вещей, часто встречающуюся там — в покинутой им среде особого духовного накала, и столь редкую здесь. Но нигде не обрел он покоя — состояния одинаково далекого и от радости, и от горя.
Его книге «Конец трагедии» суждена долгая жизнь. Это книга о судьбе русской интеллигенции, о трагедии, постигшей русскую культуру. И одновременно — это одна из лучших литературоведческих работ о Блоке. Прочнейший сплав филологии и писательства, который не столь уж многим удавался до него. Шаг за шагом проследил Якобсон последствия обрушившейся на Россию катастрофы и показал, что человеческая трагедия Блока как матрица накладывается на духовную трагедию русской интеллигенции.
И все же книга Якобсона не оставляет впечатления безысходности. Надежда для него и для нас, завороженных словесной магией и логическими построениями автора, кроется в предсмертных словах Блока: «Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно».
* * *
«Конец трагедии» я прочел в 1973 году, вскоре после выхода книги в издательстве имени Чехова. Слушал я тогда курс университетских лекций по теории литературы у Омри Ронена. С годами Ронен стал профессором Мичиганского университета, одним из лучших исследователей русского модернизма.
Маленький, рыжий, похожий на Азазелло, Омри как-то сказал:
— Якобсон приезжает в Израиль и будет преподавать на нашем факультете. Мы с Сегалом все уже устроили.
Я удивился и обрадовался. И тут же спросил:
— А как тебе его книга?
— Литературоведческая часть безупречна, — ответил Омри.
А потом грянула Война Судного дня. Две с половиной недели длились военные действия, но полгода еще Израиль и Египет, как два ковбоя, уже вложившие в кобуру пистолеты, зорко следили друг за другом, опасаясь пропустить зловещий блеск в глазах противника.
Первый отпуск мне удалось получить лишь весной 1974 года. Приехав в Иерусалим, уже не помню где, кажется у Сегала, встретился с Омри Роненом. От него узнал, что Якобсон приехал, живет в центре абсорбции.
И вот мы поднимаемся по крутой лестнице. Я волнуюсь. Для меня Якобсон был не только автором замечательной книги, но и одним из творцов легендарной «Хроники».
Открыла Майя. Познакомились. Сидевший в кресле человек даже не повернул головы. Темные, аккуратно зачесанные назад волосы. Тяжелые, усталые губы. Неправильные броские черты лица. Но нет блеска в глазах, и веет от него холодной угрюмостью. Пили чай. Майя расспрашивала о войне. Толя не произнес ни одного слова, и я подумал, что он просто замкнутый человек, который не терпит контактов с людьми случайными.
Прошло три месяца. Был вечер. Я брел куда-то по одной из центральных иерусалимских улиц. Закатное небо зажигало крохотные малиновые искорки на матовой скорлупе фонарей. Вдруг ко мне, как сорвавшийся с привязи медведь, бросился какой-то человек и схватил за руку. Уходящее солнце било в глаза, и я не сразу разглядел его лицо.
— Ты тот самый солдат, который приходил ко мне и рассказывал о войне, — сказал он, и я узнал его. — Я был болен тогда. Не мог говорить. Но я все помню. А теперь я совсем здоров. Смотри!
И, чтобы продемонстрировать свое здоровье, он тут же попытался поднять за рессоры одну из стоящих у обочины машин.
Через пять минут я чувствовал себя так, словно мы были знакомы всю жизнь. Почти до рассвета пробродили мы по узким иерусалимским улицам, размахивая руками, перебивая друг друга. И почему-то значительной и важной кажется мне та наша встреча, хоть я и не помню уже, о чем мы тогда говорили. Может быть, потому, что в тот вечер почувствовал я в нем человека огромного дарования, любящего и страдающего.
Потом он приходил к нам чуть ли не каждый день. Дверь у нас обычно не запиралась, и он сразу врывался в комнату, заполнял ее собой, огромный, грузный и одновременно изящный и быстрый, как кавалер Глюк. К радости моего сына Амира, пушистым белым шаром вкатывался вслед за ним пес «Том с хвостом», всюду сопровождавший тогда хозяина. Осваиваясь, Толя ни минуты не сидел спокойно. Подходил к полке, снимал какую-то книгу. Читал вслух, тут же комментируя прочитанное. О чем-то рассказывал рокочущим громким голосом, одновременно разыгрывал со мной партию в шахматы. Наконец, надолго устраивался в своем любимом кресле, как путник, дождавшийся желанного отдыха.
Чувство юмора, без которого не существует полноценного человека, было у него отменное. Хвастался, что ему однажды удалось перешутить знаменитого московского острослова Зяму Паперного, одарившего присутствующих свежеиспеченным афоризмом: «Ум хорошо, а х… лучше». Толя мгновенно откликнулся: «Кто с умом да с х… — два угодья в нем».
Любил острое словцо, хорошую шутку, соленый, но не скабрезный анекдот. Его шутки часто носили характер стихотворных экспромтов. Он даже изобрел новый жанр — двустишие, в котором первая строка русская, а вторая ивритская. Как-то выдал, печально глядя на пустой фиал за накрытым столом: «Глаза косит, нигмера косит» — т. е. опустела рюмка.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Реальность мифов - Владимир Фромер», после закрытия браузера.