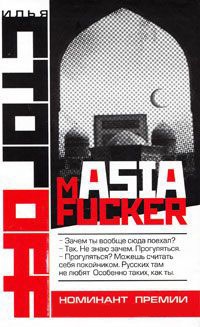Читать книгу "Дети мои - Гузель Яхина"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
За ним состоялся и третий: не сделать так аппетитно выставленный в угол шар было бы стыдно. Четвертый шар вождь стрелял длинно, через весь стол: биток по единственно возможной линии пролетел между остальными шарами, ни одного не задев; врезался в играемый (показалось даже, что при столкновении пыхнули несколько голубых искр), послал его дуплетом в среднюю лузу, а сам нырнул в угловую. Две кладки за удар! Счет сравнялся: пять – пять.
– Съел теперь, собака? – тихо произнес вождь, уверенный, что фюрер поймет и без перевода.
Тот все еще сидел на корточках, положив нос на стол и поводя водянисто-серыми глазками вслед резво скачущим шарам. Каждый удар противника он сопровождал жалобным взвизгом, словно кий лупил не по шарам, а по его голове.
Когда игра наконец перешла к нему, подскочил от радости, затряс челкой. Открыв от возбуждения рот, долго вытирал вспотевшие ладони о сукно – на зеленой ткани оставались длинные темные полосы; затем, прикусив от старательности кончик языка, мусолил мелом наконечник кия, перепачкал белым лоб и подбородок. Рассеянно сунул мелок не в карман, а себе в рот (и не заметил оплошности), стал задумчиво катать по зубам, как карамель, оценивая раскладку на поле, проглотил не жуя и радостно улыбнулся: нашел резку.
Забросил на стол согнутую корявую ножку в шерстяной гетре (вождю показалось, что от подошвы квадратного ботинка отчетливо пованивает дерьмом) и оседлал бортик. Тело свое уложил рядом, причудливым кренделем; прижался животом, грудью, подбородком к сукну, шурша твидом и стуча костяными пуговицами о деревянную раму. Раскорячил локти; заелозил кием, прицеливаясь; замурлыкал что-то нежно-лирическое:
– Ein Freund, ein guter Freund – das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt…[5]
Тщательные приготовления не помогли: кий вместо удара всего лишь скользнул наконечником по поверхности шара – фюрер позорно киксанул. Поняв, что случилось, заскулил нечленораздельно, зацарапал коготками стол, выдирая из сукна зеленые волокна, засучил в воздухе ножками. Вождь концом кия уперся в извивающееся тельце противника, столкнул со стола. И, не обращая внимания на несущееся снизу потявкивание, начал зачищать поле.
Хитрым ударом сверху разлепил два оказавшихся вплотную друг к другу шара – один тотчас ушел в лузу. Аккуратно сыграл шар в дальнем углу (ах, если бы наблюдал этот великолепный ход строгий учитель Чемоданов!). Затем – в ближнем: безупречно сыграл, что говорить, разложив оставшиеся на сукне шары для следующих ударов…
Так же решительно он выступил против фюрера и на политическом поле – тогда, в тридцать третьем, для пресечения клеветнической “голодной кампании”. В ответ на лживые немецкие брошюрки была подготовлена собственная – “Братья в нужде? Свидетельства советских немцев” (удар!). На первых полосах газет появились убедительные доказательства отсутствия голода в СССР: репортажи о прилюдном уничтожении продуктовых посылок, которые время от времени все же просачивались в Поволжье от родственников за границей; многочисленные письма советских немцев с предложениями взять из Германии “на откорм” голодающих детей; обращение колхозников к германскому консулу в Сибири господину Гросскопфу, возвращающих всю присланную им материальную помощь для передачи “голодающим немцам фашистской Германии” (удар! удар! удар!). Берлин вяло сопротивлялся, все еще пытаясь играть на “братской” теме, но Москва уже переломила ход игры. Осенью тридцать четвертого вступила в действие директива ЦК ВКП(б) “Против фашистской помощи”: активизировалась борьба с немецким национализмом, с фашистским элементом в немецких колониях; развернулся мощный культуркампф: в школах и вузах Немреспублики вместо немецкого ввели всеобщее изучение русского языка, а кампания коренизации сошла на нет (удар! удар! удар!). Германские консульства прекратили оказание адресной материальной помощи советским немцам; замеченные в организации “гитлеровской помощи” подвергались арестам…
Из-за заднего борта высунулась дрожащая челка, скрюченные пальцы поползли по сукну – фюрер хотел украдкой стащить с поля шар. Вождь размахнулся кием, как мечом, и рубанул со всей силы по торчавшему над сукном сморщенному носу. Брызнула кровь, фюрер заверещал пронзительно – чуть лампочки не треснули – и, жалобно вращая моментально распухшим пятачком (эх, жаль, что не отрубил!), сгинул под столом.
А вождь доиграл три оставшихся шара – брильянтово доиграл, как выразился бы Чемоданов. Один шар послал в лузу длинным ударом, вдоль борта. Второй – коротким ударом, с отскоком. А последний – хлестанул триплетом. Удар о правый борт. О левый. Забитие! Партия.
…В бильярдной было тихо. Изредка потрескивали электрические лампочки. Чемоданов медленно выполз из-под стола. Стоя на коленях и зажимая ладонями окровавленный нос, огляделся: в комнате никого не было, на пустом, ярко освещенном столе лежали крест-накрест два кия. Переносица болела нестерпимо – возможно, был сломан хрящ, – но Чемоданов не мог сдержать счастливую улыбку: сегодня, впервые за семь лет регулярных уроков, ученик поймал кураж. Почему это произошло именно сейчас, в партии, которая началась столь неудачно и не обещала никаких сюрпризов, Чемоданов не понимал. Знал только: единожды познав вдохновение, бильярдист более не сможет жить без куража. С этого дня ученик будет играть лучше и лучше, иногда и сам удивляясь своим быстрым успехам. С этого дня начнется совсем другая игра.
И счастливый Чемоданов улыбался в темноте.
26
Дети не вернулись – ни через день, ни через два.
Не вернулись к Баху и чувства. Они еще жили в его стареющем теле, но жили странно – отдельно от него, никак не соответствуя происходящему. В ушах отчего-то бесконечно свистел ветер – в то время как погода нынче стояла тихая (может, ветрено было в тех местах, где находилась Анче?). Нос чуял запахи – чужие, отталкивающие: изо всех углов дома несло затхлым табаком и угольной пылью; пальцы – стоило поднести их к лицу – пахли карболкой, а одежда – чьим-то немытым телом (может, и карболовое мыло, и уголь, и пот обоняла сейчас Анче?). Все, к чему прикасался язык – яблоко, тыльная сторона ладони, собственные губы, – нестерпимо отдавало горелым. Обоняние, слух и вкус предали Баха, как предала любимая девочка (он запретил себе использовать это слово – “предательство”, – но оно то и дело всплывало в сознании). Одно только зрение осталось верно хозяину – и показывало мир без искажения.
Первый день без детей он просидел на берегу, разглядывая серую гладь воды, чуть подернутую моросью, и слушая посвисты ветра в голове. Пожалуй, в измене чувств можно было разглядеть даже пользу: дождевые капли падали на лицо и одежду, но кожа не замечала влаги и не испытывала неудобства – ни днем, ни пришедшей ему на смену прохладной ночью.
На второй день Бах заметил, что глаза то и дело останавливаются на изуродованном ялике – тот лежал на берегу, подставив дождю раскуроченный топором бок.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Дети мои - Гузель Яхина», после закрытия браузера.