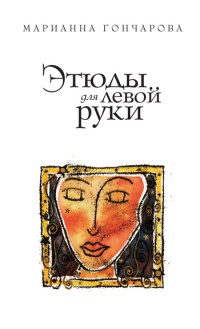Читать книгу "Послание госпоже моей левой руке - Юрий Буйда"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я вздрогнул, втянул голову в плечи: было холодно, тянуло с моря, а я был слишком легко одет. Повторяя про себя пришедшую на ум строчку «Больная совесть мировой души — на отмелях взволнованное море», я торопливо зашагал навстречу трамваю.
Полыхнув шипящей молнией на дуге, полупустой трамвай подпрыгнул и, прибавляя ходу, стал карабкаться на мост — две узкие игрушечные коробочки, освещенные изнутри неестественным бело-голубым светом, который превращает лица усталых людей в плоские маски. Я отвернулся, прикуривая, — и вдруг смешались в одно изнемогающий медно-лиловый свет заката, бело-голубой свет из трамвая и маслянисто-желтый огонек спички, смешались, взволновав меня так, словно я и был той самой гегелевской мировой душой, потрясенной космическим ураганом, хотя и не было, конечно же, никакого урагана, да и совестью тогда, в семнадцать-то лет, я страдал не больше, чем насморком, — но, вдруг подумал я, шалея от внезапного порыва ветра и счастья, — и это было как озарение, — мировая душа — есть, черт возьми, не может не быть, и вот сейчас, на какой-то миг, я — случайно, конечно, — оказался в средоточии этой самой души, высвеченной до дна вспышкой осеннего света, и она, эта огромная, словно чрево чудовищного библейского Левиафана, душа — шевельнулась навстречу свету — навстречу любви и счастью, как бы абсурдно это ни звучало, — навстречу вот этому всему, чем и будет полна жизнь, — медно-лиловому, мертвенно-белому и маслянисто-желтому, а уж чем это станет на самом деле и как это назвать — совсем неважно, потому что и жизнь, и любовь, и будущее — безымянны, по счастью…
Откуда это чувство вины при одном взгляде на гравюру, исполненную в духе каких-нибудь малых голландцев вроде Питера де Хоха или Яна ван Гойена? Она досталась мне от матери, которая всю жизнь хранила ее почему-то в сундучке, завернув в шелковый платок, и повесила на стену только после смерти отца. Сюжет гравюры никак не связан с историей семьи — во всяком случае, мать со смехом отвергла мои предположения о тайных мечтах всех женщин и всех мужчин, заметив лишь, что и ей, и отцу эта картина нравилась, но любовались они ею порознь, потому что делать это вместе им мешало смущение, странным образом вызываемое гравюрой. «Впрочем, когда твой отец играл из Чайковского, я испытывала такое же чувство и не могла от стыда поднять глаза на соседей, — призналась как-то мать. — Мне казалось, что музыка обращена ко мне и звучит чересчур откровенно, бесстыже, а ведь концертный зал — не супружеская спальня». И вот матери нет, и отца нет, а гравюра, не имеющая отношения к истории нашей семьи или к моей судьбе, вызывает у меня острое, подчас мучительное чувство стыда и вины, накладывающееся на те естественные чувства, которые испытывает сын, бессильный удержать мать и отца на этом свете.
При чем тут гравюра? Это странно.
Глядя на гравюру, я не думаю о родных и близких, — сохранилось немало предметов, напоминающих о них прямо и пронзительно, но эта картинка не из их числа, — при взгляде на нее я чувствую неодолимое притяжение чужих жизней, отравленных тайной, которая — а вот это уже странно — каким-то образом связана со мной. На гравюре изображена комната с низким потолком, с кроватью под балдахином в левом углу, рядом с которой высится похожий на рояль dobbel staartstuck — двухмануальный клавесин — с нотами (на обложке читается имя Орландо Гиббонса), с брошенными подле высокого табурета шелковыми туфельками. Справа же видна половинка длинного стола с бесформенной тенью от предмета, стоящего, судя по всему, либо на отсутствующем на картине конце стола, либо на подоконнике. Может быть, это ваза. А может быть, эта тень принадлежит человеку, заглядывающему в окно, которого не видно зрителю и которое видел художник, решивший, исходя из требований искусства, оставить его за рамой, в другом мире. Точно в центре — дверь, которую закрывает за собой женщина — виден только край ее уплывающего в дверной проем платья да рука, уже отпустившая край двери, которая вот-вот захлопнется, а там, за дверью, откуда-то сверху льется чистый — невинный — свет, тающий на женском затылке. Лица ее не видно, так уж решил художник, — и чем больше я думаю об этой женщине, тем лучше понимаю живописца, в жилах которого течет холодная, мудрая кровь искусства: ее лицо принадлежит тайне. Листок нотной тетради отогнулся и дрожит, не успев занять свое место, брошенные туфли по-настоящему, кажется, не улеглись и еще не остыли после женской ножки, клавесин звучит, угасая, и улетает шуршание платья и теплый блик полной голландской ручки, — и во всем, во всем — ощущение смятения, тревоги, угрозы, и в поисках причины взгляд снова возвращается к столу, на вычищенные доски которого падает свет из невидимого окна и таинственная бесформенная тень чего-то или кого-то, нарушившая и продолжающая нарушать гармонию одиночества. Свет за дверью, стремительные движения девушки, тень чудовища, ощущение бесповоротности, безвозвратности происходящего создают напряженную атмосферу разрушительного волнения, болезненно отдающуюся в моем сознании. Что побудило ее, прервав безмятежное музицирование, вдруг броситься — босиком! полуодетой! — вон из дома? Возможно, ее напугал человек, возникший в окне. А может быть, она услышала голос — зов, которого так ждала и которого так боялась, и, будучи не в силах противостоять ему, метнулась к двери, уговаривая себя: «Я только взгляну на него одним глазком», и увидела его, все поняла, зажмурилась, бросилась, пала в сани, помчалась… Стоп, стоп! Но я-то при чем? Ведь мне никогда не доводилось выступать в роли рокового соблазнителя, выманивающего девушек из добропорядочных домов, а потом бросающего их, оставляющего их в одиночестве после всех этих страстных объятий, поцелуев — оставляющего на погибель, потому что после такого бегства, после такой любви, после такой кровавой жертвы Спасением может стать только погибель. И что же это за Спасение, которому жертвуют всем, чтобы остаться лишь тенью на гравюре, лишь на миг вознесшись в мир превыше всякого ума? А истинная любовь, как и истинная вера, — это мир превыше всякого ума, мир без стыда, мир бесстыжий, достигнуть которого нам не дано, но стремлением к которому — и только им — и оправдывается наша жизнь, и даже если это не так, то все же остается хотя бы дрожь в сердце да невнятное, но мучительное чувство вины при взгляде на эту проклятую гравюру, чувство, заменяющее жизнь, превращающееся наконец в жизнь, как жизнь превращается в то искусство, которое эту жизнь питает…
Что видят мои глаза? Четыре сливы и стакан красного вина на желтом бархате. Черные, с сизыми боками сливы, высокий стакан толстого стекла, жаркий рытый бархат, углом свисающий со стола. Вот и все, что видят мои глаза.
А что видит сердце мое? Четыре сливы и стакан красного вина на жарком бархате. Я волнуюсь, я не знаю, как это выразить, и не понимаю, почему при виде этих слив, этого вина, этого бархата сердце мое так стеснено, так волнуется.
Сливы, стакан, кусок бархата… Разве можно это любить? Жалость, благоговение и стыд — вот что такое настоящая любовь. Но может ли небессмертный человек сострадать сливам? Или бездушный стакан — благоговеть передо мною? И может ли стыд связать нас, человека и этот бархат, как связывает людей? Может, Господи, Ты свидетель, — может, потому что в те мгновения, когда душа моя стеснена, охвачена волнением и полна любовью, этот бархат и даже эти бессмысленные сливы становятся моей душой — бессмертной душой. Ибо сказал Господь: «Воистину, кто любит сливы сии, тот любит Меня, тот пронесет душу свою в жизнь вечную».
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Послание госпоже моей левой руке - Юрий Буйда», после закрытия браузера.